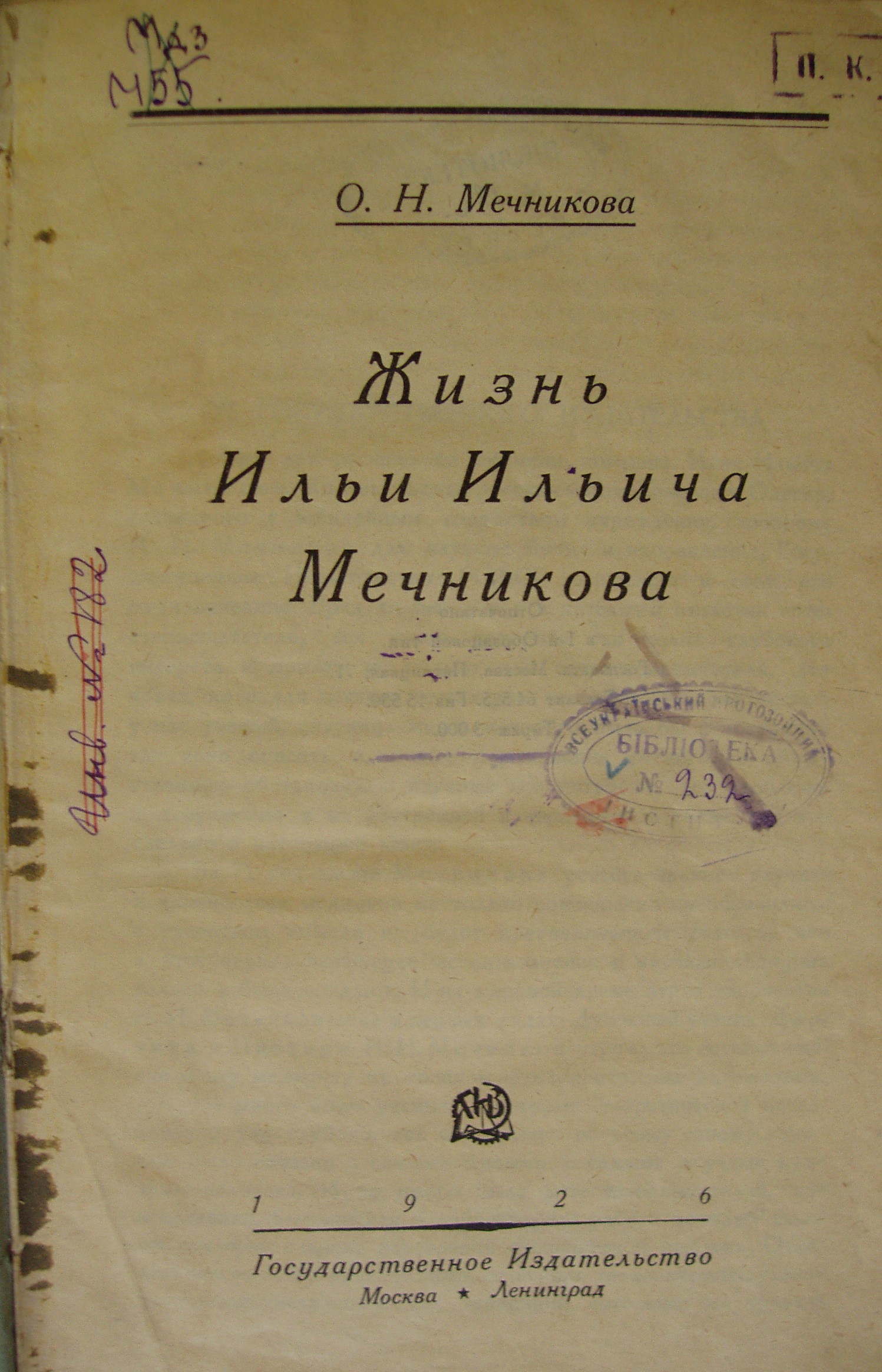Жизнь Ильи Ильича Мечникова (О. Н. Мечникова)
ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
Десять лет прошло со времени кончины Ильи Ильича Мечникова. Ко дню съезда русских бактериологов в Одессе, связанного с юбилейным торжеством учреждения, которому И. И. Мечников дал научное бытие и направление, Государственное Издательство РСФСР выпускает в свет его жизнеописание. Вряд ли был у нас в истекшем столетии естествоиспытатель, вся жизнь которого так полна глубокого интереса и притом не только для естествоиспытателя, для врача, но и для всякого мыслящего человека. И вряд ли был у нас ученый, спутница жизни которого была бы в состоянии так ярко описать и личные переживания ученого, и общественную обстановку, и научные его интересы, его проблемы и достижения в их внутренней и неразрывной связи, как это сделано в настоящей книге.
За 71 год жизни Мечникова естествознание, научная и клиническая медицина не только совершенно преобразились; в известном смысле не будет преувеличением сказать, что в этот период настоящее естествознание и научная медицина только и были созданы. И на мировой арене этого творчества И. И. Мечников стал в первых рядах. Духовный ученик Дарвина и Пастера, И. И. Мечников строил это естествознание и эту медицину на крепком фундаменте, ими заложенном.
Не много было ученых, в которых теоретическое исследование так глубоко, так неразрывно по всему своем замыслу было связано с самыми живыми, с самыми жгучими нуждами человека. И не много было естествоиспытателей, повседневная, фактическая и лабораторная работа которых была бы так ярко озарена неустанной философской мыслью. Отделавшись от всего мистического, от всяких теологических, телеологических, метафизических тенденций, которыми так чревата натурфилософия, И. И. Мечников закладывал настоящие научные основы материалистического миросозерцания. Сорок лет научного его творчества были „сорока годами поисков рационального мировоззрения, главная задача которого была — вскрыть источники дисгармонии, человеческой природы, т. е. тех глубоких противоречий, которыми она охвачена и в примиряющем синтезе которых человечество так заинтересовано. Разве это не диалектическая постановка проблемы?
И вся эта картина работы научной мысли правдиво освещена автором на фоне общественной и политической жизни, среди которой она развертывалась. Пред нами эпоха мрачной реакции в России, выжившей, быть может, наиболее выдающегося русского ученого и притом отнюдь не склонного к активной политической борьбе, и из университета, в котором он преподавал, и из бактериологического института, в который он вдохнул научную жизнь, и из страны, которой принадлежали все его привязанности.
Правда, О. И. Мечникова, автор биографии, писала ее вне России, в далеком Париже. Она не пережила с нами отвратительной картины разлагающегося царского режима, ее не было среди нас, когда этот режим свергался, она не пережила с нами Октября и гражданской войны, она не дышала воздухом, не мыслила думами Советской России. И это не могло, конечно, не отразиться на самой книге, тем более, что значительные части ее были написаны еще при жизни Ильи Ильича. Вследствие этого в тоне ее повествования часто слышатся уже чуждые нам мотивы. Слишком мягки для нас картинки крепостной эпохи, в которой протекало детство Ильи Ильича. Иначе бы мы расценили эпизод, описанный в III главе первой части, и т. д. Но зато эти строки были одобрены Ильей Ильичем и в истинном свете рисуют его мировоззрение, — а это для жизнеописания самое важное. А главное, в книге эти мотивы играют совершенно незначительную роль; русский читатель уже привык пропускать их через свою призму. Зато перед всяким, кто прочитает эту книгу, вырастает яркий образ ученого, быть может, не называвшего себя материалистом, но, как не многие, растившего и крепившего материализм, чрезвычайно далекого от диалектиков, но стихийно увлеченного диалектическим мышлением.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
В тихий летний вечер мы сидели вдвоем на своей террасе.
Накануне к Илье Ильичу за некоторыми справками приходил неизвестный ему публицист, собиравшийся писать его биографию.
По этому поводу мы говорили о том, как биография, написанная при таких условиях, должна неизбежно быть поверхностной и неполной; о том, как вообще трудна задача биографа; как необходимо основательно знать человека и все фазы его существования для того, чтобы дать верное представление о его характере и жизни. Интимная сторона всегда более или менее недоступна постороннему; чтобы разобраться в ней, надо долго в близком общении прожить вместе.
Наше многолетнее общее прошлое соответствовало этим требованиям. Вся жизнь Ильи Ильича хорошо мне известна. О детстве его много и живо рассказывала его мать; сам он охотно и часто говорил мне о своем прошлом; вторую же часть его жизни мы прожили вместе.
В его жизни и произведениях все так тесно связано, так вытекает одно из другого, что для цельности понимания их надо знать все звенья его развития.
В созерцательной тишине летнего вечера я заговорила с ним. о своих размышлениях. Он отнесся к ним так сочувственно, что этим окончательно укрепил мое намерение писать его биографию.
Он настаивал на рассказе полном, как бы научно-точном, считая, что лишь при этих условиях жизнеописание имеет серьезное значение. Я и руководствовалась этим советом в пределах выполнимого: не всегда возможно вскрывать индивидуальную жизнь, не проникая в чужую, неприкосновенную...
Многочисленными представлялись мне трудности моей задачи, тем не менее я смотрела на нее, как на миссию: если в этой биографии и будут крупные промахи, все же, надеюсь, она даст верное представление о развитии, жизни и деятельности Ильи Ильича.
... Мы долго говорили на эту тему в тот тихий летний вечер. Луна успела уже подняться из-за деревьев, и свет ее серебристыми узорами вырезывался сквозь темные листья плюща. Он заливал и орешник перед домом, и лужайку, и все вокруг, — этот таинственный, мирный свет луны. Под влиянием его прелести мы перестали говорить, точно прислушиваясь к внутренним голосам природы и себя самих. В юности голоса эти — неясные грезы будущего; когда уже много пережито — они воспоминания прошлого...
Того, о ком пишу, уже нет...
Без его содействия я не могла бы выполнить своей задачи. Часто, когда он не был слишком утомлен дневной работой, после обеда, удобно усевшись в свое большое кресло, он принимался, со свойственным ему оживлением, яркостью и ясностью, рассказывать мне какой-нибудь эпизод своего прошлого...
Я успела прочесть ему набросок всей первой части этой биографии и несколько глав второй, тогда еще только начатой.
Сколько незабвенных вечеров провели мы таким образом...
Он дорожил этой биографией, считая, что история развития человеческой мысли, характера и жизни всегда представляет интересный психологический документ.
Во время своей длительной тяжкой болезни он часто настаивал на том, чтобы я рассказала «последнюю главу» его жизни, надеясь своим отношением к смерти уменьшить страх других перед нею. Кроме того он говорил, что люди редко сознательно доживают свой век; еще реже достигают они развития «инстинкта смерти», а потому такой пример интересен и должен быть описан. По мере сил своих исполняю его волю.
Единственная цель этого простого, но правдивого рассказа — показать Илью Ильича, каким он был, а таким он — опора и поучение.
Севр.
15 декабря 1918.
Часть первая. Детство, юность и молодость
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПАНАСОВКА И ЕЕ ХОЗЯЕВА
В Малороссии, в степной части Харьковской губернии, Купянского уезда, находилось имение Панасовка. Оно принадлежало семье Мечниковых; впоследствии оно было продано и перешло в чужие руки. В былое время это было родовое именье Ильи Ивановича, отца Ильи Ильича Мечникова. Местность, где расположена Панасовка, нельзя назвать ни красивой, ни веселой: степь, бугры, покрытые низкой травой да полынью; бедная деревня, тщедушная растительность, отсутствие реки, — все это вызывает скорее унылое настроение. Но зато какой простор, какие мягкие, серебристо-пепельные тона, как чудно пахнет степной полынью ранним утром и вечером!
Панасовский дом стоит немного в стороне от деревни, на холме, спускающемся к небольшому пруду. Дом похож на все малорусские помещичьи усадьбы средней руки: полутораэтажный, с двумя подъездами на переднем фасаде и пустынным двором с видом на большую дорогу. Сзади полукруглый балкон с колоннами и ступеньками, ведущими в сад. В нем — довольно жалкие клумбы цветов, фруктовые деревья, спускающиеся к пруду, винокуренный завод на берегу и отлично содержавшийся огород.
Внутренняя обстановка дома обыкновенная, средняя. Никакой претензии на изящество или комфорт. Мебель неуклюжая, старомодная, но не стильная, расставлена шаблонно.
Зато во всем, касающемся стола, — хозяйственность необыкновенная: чуланы и погреба переполнены разнообразной, отборной провизией. Чего-чего там только нет! Видно, что заботливость хозяев по влеченью сосредоточена на этой области; и действительно, во всем околотке Панасовка славится своей едой и хлебосольством.
Судя по очень хорошему портрету, писанному в 1835 году, Илья Иванович Мечников в то время был красивым юношей, с правильными чертами, с глазами нежно голубыми, со светлыми вьющимися локонами. Он был очень умен, но с тем оттенком скептицизма, который мешает серьезному отношению к жизни и труду. При этом у него был темперамент эпикурейца, и он был военным. Очень рано он женился на Эмилии Львовне Невахович, сестре своего товарища по гвардии.
Она была очаровательна — выдающегося ума, красивого еврейского типа, с чудными темными и огненными глазами, с характером живым, сердцем добрым и нежным. Ее звали Милочкой.
В старости она любила вспоминать, как однажды на балу Пушкин сказал ей: «Que vous portez bien votre nom, made-moiselle»1. Женившись на ней, Илья Иванович продолжал жить в Петербурге, вести веселый беззаботный образ жизни; через несколько лет все приданое Эмилии Львовны было прожито.
А между тем подрастало уже трое детей, и надо было, позаботиться о их будущности.
Вот тогда-то вспомнили, что где-то далеко в Малороссии у Ильи Ивановича есть родовое имение. Сколько энергии и настойчивости должна была проявить Эмилия Львовна, чтобы уговорить мужа переехать туда. И каково было ему покинуть привычную, веселую столичную жизнь для глухой деревни!
Тем не менее переезд был решен. Двух мальчиков, Ваню и Леву, оставили в Петербурге, поместив их в пансион для подготовления в лицей и в школу правоведения.
Илья Иванович взял место ремонтера двух гвардейских полков и с женой, дочерью, тетей жены и своим младшим братом, Дмитрием Ивановичем, переехал в деревню.
Сначала семья поселилась в старом доме, в Ивановке, где родилось еще двое сыновей.
После рождения первого из них, Коли, надеялись больше не иметь детей. Тем не менее через два года, 3 мая 1845 года родился последний ребенок — Ильюша.
Ивановский дом был стар и неудобен. Илья Иванович выстроил новую усадьбу в другом конце имения, называемом Панасовкой. Таким образом окончательно было свито семейное гнездо.
Эмилия Львовна, со свойственной ей энергией и страстностью, погрузилась в домашнее хозяйство. С одной стороны, она хотела помочь поправить расстроенные дела, с другой — создать мужу обстановку, соответствующую его эпикурейским вкусам. Илья Иванович любил еду и карты, — таким вкусам легко было удовлетворить в деревне. И вот вокруг этого стала вращаться вся жизнь; главной ежедневной заботой был стол; с поваром и ключницей велись длинные переговоры на эту тему. Благодаря крепостному праву дворовых людей было множество, — все заготовлялось дома.
Девичья была полна вышивальщицами, швеями и всякой другой женской прислугой, которой управляла уже немолодая, толстая Авдотья Максимовна, она же Дуняша. Она носила «очипок» и неизменно одевалась в коричневую кофту и юбку с белыми крапинками. Всех держала она в руках. Заслышав ее мягкие шаги, девушки быстро шептали: «Авдотья Максимовна идет!». Разговоры мгновенно прекращались, и все погружались в работу. Среди мужского персонала главную роль играл лакей Петрушка, неряшливый, часто пьяный, но добродушный малый. Он обыкновенно дремал за перегородкой в передней.
Кучера, повар и другая прислуга сколь возможно сваливали работу на своих помощников — поварят, форейтора, казачка. Одним словом, все было в порядке вещей, как водилось в помещичьих усадьбах во время крепостного права.
Отношения Мечниковых к крестьянам были хорошие. Крестьян, по тогдашним понятиям, не обижали, несмотря на некоторые крепостнические привычки. Так, за провинность девушек били по щекам и таскали за косы. Даже добрый и спокойный Дмитрий Иванович с размаху давал пощечину своему лакею, когда заставал его пьяным. Но в те времена все это не считалось ни жестоким, ни даже обидным, а совершенно естественным отеческим поучением.
Крестьяне относились доверчиво к Илье Ивановичу, постоянно обращались к нему за советами и в нужде прибегали к его помощи. Он всегда давал согласие своим крепостным на вступление в брак по их выбору, что в ту эпоху было редким явлением.
Молодые приходили на поклон; жених в праздничном тулупе, подпоясанном ярким поясом; невеста — в красиво вышитой рубахе, с разноцветными лентами в волосах. Они становились и на колени и трижды кланялись в землю. Илья Иванович и Эмилия Львовна благословляли их иконами, целовались с ними и давали денег на свадьбу. Крестьяне любили Мечниковых и считали их добрыми помещиками.
Воспитанием детей заведывала Эмилия Львовна. Ее личная педагогика сводилась главным образом к нежному баловству; она же выбирала нянек и приглашала учителей. Пока мальчики были малы, ими занималась бабушка Елена Самойловна; потом они переходили в руки гувернеров и учителей. Деятельность Ильи Ивановича заключалась в покупке лошадей на ярмарках и конных заводах и в препровождении их в Петербург для сдачи ремонта.
Так как путешествия эти совершались на лошадях, на «долгих», с остановками в разных городах, то он пользовался этим для крупной игры в карты и для развлечений, недоступных в деревне.
Сельское хозяйство в Панасовке было очень незначительно, так как имение преимущественно состояло из пастбищ для лошадей и овец. «Делами» занимался главным образом Дмитрий Иванович. Он был беззаветно предан семье брата. Будучи несколькими годами моложе его, он говорил ему «Илья Иванович» и «вы», в то время как тот говорил ему «ты».
Дмитрий Иванович был высокий угрюмый человек; большею частью он упорно молчал, курил трубку и вышивал на пяльцах. Живая Эмилия Львовна часто говорила ему: «Да что это, Митенька, вы постоянно молчите? От вас слова не добьешься». На что Дмитрий Иванович неизменно отвечал: «Не всем же вечно болтать, как вы, Эмилия Львовна». Между ними установились самые хорошие отношения: Дмитрий Иванович был готов идти в огонь и воду за Эмилию Львовну. Она это чувствовала и имела к нему безграничное доверие. Действительно, во все трудные минуты жизни она находила в нем твердую опору.
Мужчины проводили большую часть дня, а иногда и ночи, за картами. Партии составлялись между родственниками и соседями. Занятие это считалось важным, существенным. Еда тянулась бесконечно; всего подавалось в изобилии; к блюдам возвращались по нескольку раз; ели как знатоки, обсуждая все достоинства и недостатки кушанья. Вскоре после обеда являлся повар, и общими силами делался заказ на следующий день. Соснувши немного, опять садились за карты.
Так проходили дни за днями в этом культе карт и еды, в разговорах о лошадях да изредка о политике. Илья Иванович начинал лысеть и тучнеть. Трудно было определить его душевное состояние. У него не было «настроений», он никогда ни с кем, даже с Эмилией Львовной, не говорил «по душе».
Пока дети были маленькими, он ласкал их. Но, по мере того как они подрастали, все сношения с ними сводились почти исключительно к тому, что утром и вечером они прикладывались к его руке. Однако из этого не следует, что он был равнодушен к ним; напротив, он думал о их благополучии, но, в этом вполне полагался на деятельную заботливость Эмилии Львовны.
С нею отношения детей были совсем иные. Она не только баловала их, но горячо принимала к сердцу все их детские интересы. Своей отзывчивостью, живостью, общительностью она привлекала их сердца, была их другом и поверенной.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ДЕТИ
Старшие мальчики, Ваня и Лева, учились в Петербурге. Дочь, Катю, воспитывали дома, как всех барышень дворянских гнезд того времени, с единственной целью выдать замуж. Миловидная, тонкая и стройная брюнетка, она походила на мать, хотя была менее красивой. Умная и нервная, она интересовалась, однако, главным образом, чтением французских романов. Между нею и младшими мальчиками была большая разница в возрасте, тогда как последних разделяло всего два года. Коля, любимец бабушки Елены Самойловны, был хорошенький, толстенький бутузик, с бархатными черными глазами, движениями флегматичными и важными, за что его звали «papa tranquille»1.
Младший в семье — Ильюша, — наоборот, был весь — огонь. Светленький, тоненький мальчик, с нежным цветом лица, светло-каштановыми шелковистыми волосами и серо-голубыми глазами, искрившимися живостью и добротой, он был впечатлителен, вспыльчив, нервен и подвижен, как ртуть.
Его прозвали «m-r vif-argent»2. Все ему надо было знать, везде быть, все видеть. Когда за картами, после долгой тишины, вдруг раздавались общие, громкие голоса, — он стремглав бросался в зал, думая: «а вдруг подерутся». Целый день бегал он по- всему дому — то вслед за мамой по хозяйству, при чем попутно пробовал и осматривал все съестное; то бежал в девичью смотреть, как работают, и сам хотел вышивать; всем мешал, надоедал, пока его не выпроваживали. Тогда он искал другое занятие: бежал смотреть, накрывают ли на стол, что к обеду, или приставал ко взрослым, забрасывая их странными вопросами.
Он успокаивался только тогда, когда его внимание было поглощено каким-нибудь наблюдением — насекомым, бабочкой, которую надо поймать, или игрою старших в карты. Особенно же он притихал, когда кто-нибудь садился за рояль. Приютившись у инструмента, он мог часами слушать музыку.
Как и остальные дети, он был чрезвычайно избалован. Больше всех баловала его мать, отчасти как младшего и в противовес бабушке, которая оказывала явное предпочтение Коле, отчасти потому, что у Ильюши часто болели глазки, и он считался золотушным ребенком. Плакать и трогать глаза ему было запрещено, и потому все позволялось, лишь бы избегнуть этого. Ильюша, как умный мальчик, отлично понимал выгоду своего положения и злоупотреблял им. Как только ему что-нибудь запрещали или журили за шалость, — он делал вид, что трет глаза, и, хныкая, говорил: «а я тиру и плачу».
Вследствие таких условий он был особенно избалован и капризен. Мать называла его «нервным ребенком», а сестра, которой часто приходилось воевать с ним, — «убоищем».
Однако в действительности Ильюша был чрезвычайно добрым, любящим и нежным. Он был очень ласков, особенно с матерью; на него всегда можно было повлиять, действуя на его доброе сердце.
Чувствительный к добру, он в то же время глубоко страдал от всякой несправедливости или обиды. Он не мог простить бабушке ее явного предпочтения Коле. Горько задевало его то, что она всегда отдавала лучшие куски своему любимцу. Всякий раз, когда обносили блюдо за столом, бедный Ильюша с замиранием сердца следил за ним; а бабушка, точно ничего не замечая, клала заманчивый кусок к себе на тарелку, спокойно разрезывала и отдавала его Коле.
Вечером Ильюшу укладывали спать и говорили: «Ну, детка, теперь надо помолиться, а потом и баиньки». Но этого добивались не сразу. Нашалившись и уставши так, что глазки уже сами начинали слипаться, он, наконец, решался стать на колени в своей кроватке, сложить ручки и начать молитву: «Господи, спаси и помилуй папу, маму, бабуш..», но тут он вспоминал, как бабушка обидела его за столом, и, спохватившись, прибавлял «Нет, бабушку не надо; она злая... Братьев, сестру, тетей, дядей, всех людей и меня «маладенца» Илью!». Окончив молитву, он все-таки еще не сразу засыпал. Как нервный ребенок, он боялся оставаться один и от времени до времени приоткрывал веки, чтобы увидеть, сидит ли возле него одна из босоногих девушек, приставленных к нему, пока он уснет. Иногда, думая, что он уже спит, девушка на цыпочках уходила. Ильюша, приоткрыв глазок, не видя ее, вдруг встрепенется и с вытянутой шейкой с минуту всматривается в полутемную комнату. Ночник тускло освещает ее; от мерцанья пламени большие тени предметов точно двигаются и скачут. Ильюше вдруг становится так страшно, что он прячет голову в подушку и кричит изо всех сил. Прибегает Авдотья Максимовна и спешит успокоить его. Она накидывается на провинившуюся девушку: «Ну, как же не стыдно! Ну, как же можно так оставлять благородное дитё!». Ильюша еще всхлипывает, но уже знает, что теперь его не оставят одного, и скоро засыпает глубоким детским сном.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОЕ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
В 1850 году детей везут в Славянск, на купальный сезон. По степной дороге в знойный летний день катилась тяжелая панасовская карета шестеркой с форейтором. За ней, на некотором расстоянии, чтобы пыль не мешала, следовал неуклюжий тарантас.
В старинной четырехместной карете, с запыленным потрескавшимся верхом, сидела Эмилия Львовна с тремя детьми. На козлах, рядом с кучером, клевал носом дремлющий лакей. В тарантасе ехал Дмитрий Иванович с родственником Гес де-Кольва. Жара стояла невыносимая. В начале дороги все были возбуждены и волновались. Эмилия Львовна вспоминала, не забыто ли что-нибудь, и обсуждала с Катей предстоящее устройство в Славянске. Мальчики высовывались из окон, заглядывая на лошадей и на тарантас, делая всякие замечания. Ильюша так ерзал и болтал, что ему то и дело говорили: „Да сиди же смирно, упадешь, дай же хоть слово сказать”, и т. д.
Мало-помалу однообразие степи, жара и укачивающее движение кареты навели дремоту на больших и малых. Тарантас отстал: Дмитрий Иванович с товарищем хотели заехать к тетушке, по соседству. Наконец вдали показалось очертание леса. Все ближе и ближе — и скоро подъехали к лесному постоялому двору: „Калмыков — постоялый”. Все опять оживились. Мальчики засуетились, ими овладела потребность размять ноги, побегать. Они стали упрашивать мать отпустить их в лес, пока будут кормить лошадей. Эмилия Львовна согласилась, но не иначе, как с Петрушкой, и ненадолго. Вкусно перекусив, дети заторопились в лес; там все манило их: чаща, лужайки, овраг, таинственная тропинка. Но не успели они проникнуть немного вглубь, как до них стал доноситься какой-то смутный, тревожный гул. Они остановились, прислушиваясь. Это были отдаленные грубые голоса шумной толпы. Дети сразу притихли и послушно заторопились обратно к постоялому двору. Там карета все еще стояла распряженной. Мать тревожно выглядывала из окна и нервно замахала руками: „скорее, скорее”.
Поодаль, вокруг лошадей, стояла толпа мужиков; многие из них были совершенно пьяны. Они кричали, перебивая друг друга, надвигались на кучера и форейтора, отнимая у них лошадей, угрожая не отпустить, пока им не дадут тысячу рублей выкупа. Перепуганные дети с ужасом жались к матери. Сама она была ни жива, ни мертва. Ильюша чувствовал, как трепетала ее рука, и весь дрожал. Сердечко его билось, как у пойманной птички. Пьяные мужики казались ему страшными чудовищными разбойниками, которые уведут их и, пожалуй, убьют. Он еле сдерживал слезы.
Мужики успели связать кучера и форейтора и увести лошадей. Прижимаясь друг к другу, Эмилия Львовна и дети прислушивались, не едет ли тарантас. Уж десять раз то одному, то другому чудился колокольчик. Наконец звук его действительно раздался вдали. „Едут, едут”, радостно шептали дети. Бросились к Дмитрию Ивановичу объяснять, в чем дело. Он с товарищем тотчас направился к толпе; начались переговоры, долго ни к чему не приводившие. Наконец, Гес де-Кальва пришла в голову мысль сказать, что он съездит к своей тетушке, соседней помещице, и привезет выкуп. Мужики согласились отпустить его одного, задерживая остальных, в качестве заложников.
Через некоторое время, казавшееся детям бесконечным, заслышался приближающийся колокольчик; на этот раз он сопровождался топотом людских шагов. Появился тарантас, а за ним целый взвод „бессмертных гусар”. Вместо того, чтобы ехать к тетушке, Гес де-Кальва направился в ближайшее село, где был лагерь, и рассказал офицерам о случившемся. Те тотчас же пришли на помощь со своими солдатами. Картина сразу изменилась. Эмилия Львовна и Катя потихоньку крестились. Ильюша выпустил мамину руку и уж не жался к ней, а, вытянув шейку, во все глаза следил за тем, что теперь будет. „Ну, — думал он, — теперь нас не убьют. Теперь им достанется. Так им и надо”. И может быть в первый раз в жизни в его маленьком сердце зашевелилось недоброе чувство к людям. А тем временем началась грубая расправа, свалка, крики драка. Мужиков связали. Из соседней деревни прибежали бабы и парни. Все кричали, причитывали. Одна из баб подбежала к молодому офицеру и с бранью ударила его по лицу. Офицер пришел в ярость, стал кричать, чтобы ей забили рот землею солдаты повалили ее; мужики бросали в них комьями земли Ильюше было страшно, и все это насилие возбуждало в нем отвращение. Кучера и форейтора, наконец, освободили, привели лошадей, наскоро запрягли их в карету, и, пока шла расправа, семья уехала дальше. Уже без приключений добралась она в Славянск.
Этот эпизод — первое сильное и яркое впечатление, которое запомнил маленький Ильюша. Оно глубоко поразило его и оставило следы на всю жизнь, внушив ему ненависть к грубой дикости и насилию, откуда бы оно ни исходило.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРЕЕЗД В ХАРЬКОВ
На следующий год решено было переехать в Харьков. Кате минуло семнадцать лет; пора было ее вывозить. Мальчики продолжали вести детский образ жизни: беготню, игры, шалости. Коля учился читать и писать с бабушкой. Ильюша быстро запоминал ту или другую букву и таким образом очень быстро сам научился читать.
Переезд в Харьков был, конечно, великим событием. Задолго весь дом был занят приготовлениями. Дети радовались перемене, — не могли дождаться минуты отъезда. Наконец она наступила. Разместились по экипажам, кучеру сказано было: „с богом, трогай”, и покатили по степной дороге.
В Харькове установился панасовский образ жизни с прибавлением светского элемента из-за выездов Кати и приема многочисленных гостей. Свобода детей была несколько ограничена. Уже дорогой в Харьков им внушали, что в городе нельзя кричать на улице, нельзя показывать пальцами, гулять одним, шуметь в доме и т. д. Дети впервые бессознательно почувствовали, что семья их — не центр вселенной, что есть множество других семей, и даже что с ними надо считаться. Это открытие было очень неприятно Ильюше.
Мечниковы поселились в большой квартире, над хозяевами дома. Однажды дети неистово расшалились, подняли страшную беготню и визг. Снизу пришли сказать, что хозяйка больна и просит не шуметь. Ильюшу возмутила эта помеха в самом разгаре игры, и он пришел в такую ярость, что лег на пол и принялся нарочно свистеть в щель. Укротить его стоило больших усилий1.
В Харькове кругозор детей стал быстро расширяться. Дмитрий Иванович повел их в театр, и новый мир фантазии открылся им. Впечатление было так сильно, что они на другой же день решили представлять. Сначала они воспроизводили виденную пьесу, а затем, по инициативе Коли, стали сами сочинять. Коля написал драму под названием „Горячий чай”. Сюжет заключался в том, что гостю предложили такого горячего чаю, что он обжегся им, рассердился, поссорился с хозяином, вызвал его на дуэль и т. д. Ильюша, конечно, поспешил подражать брату и сочинил что-то в том же роде, но уж такую чепуху, что сам почувствовал слабость своей попытки и отказался от литературной деятельности. Вообще в этот период он потерпел целый ряд неудач, сильно повлиявших на его „самоопределение”. Коля, по примеру старших, часто играл в карты то с другими детьми, то с горничными. Ильюша тоже пробовал силы на этом поприще; но, благодаря своей нервности, так волновался, что вечно оставался в „дурачках”, и обыкновенно игра кончалась ссорами и слезами. Это внушало ему полнейшее отвращение к картам. Коля очень любил разные физические упражнения – гимнастику, единоборство. Ильюша, как младший, естественно, оказывался наиболее слабым и из самолюбия стал уклоняться от этих удовольствий. Таким образом путем исключения была расчищена почва для новых влияний, иных, чем домашние.
Но пока в харьковской обстановке не появлялось никаких новых элементов, и жизнь Ильюши протекала по-прежнему в теплой атмосфере материнской заботливости и ласки, в детских играх и начальном обучении.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ МЫСЛИ
Зимой 1851 года было получено известие о том, что у второго сына Мечниковых, Левы, сделался коксит1 и что доктора советуют сейчас же увезти его из Петербурга. Горько плакала и отчаивалась бедная Эмилия Львовна. Дмитрий Иванович спокойно объявил, что тотчас едет за Левой; достал свою огромную медвежью шубу, мохнатую шапку, теплые сапоги и в тот же день отправился на перекладных в Петербург. Через столько времени, сколько необходимо для поездки туда и обратно, он вернулся с Левой. Последний был красивый, живой, умный и талантливый тринадцатилетний мальчик. Он ходил на костылях, но помимо этого был совершенно здоров. Его решили готовить в гимназию и для этого пригласили учителей студентов. Они-то и внесли новый элемент в жизнь семьи.
В 1853 году на каникулы в качестве учителя Левы приехал студент-медик Ходунов. Он занимался толково и добросовестно, стараясь не только учить, но развивать ученика, внушать ему любовь к науке. Ученье шло хорошо, так как Лева был крайне способный мальчик; но он слишком разбрасывался, а потому был поверхностен, что несколько охлаждало Ходунова. Между тем его все более и более заинтересовывал маленький Ильюша. Первые сношения с ним завязались во время общих прогулок. Ходунов, проходя с Левой ботанику, делал с ним экскурсии для знакомства с местной флорой. Сначала Ильюша сопровождал их только ради прогулки, но очень скоро так увлекся и заинтересовался ботаникой, что обратил на себя внимание учителя, и мало-помалу весь его интерес сосредоточился на мальчике, которым он серьезно занялся. Ильюша с настоящей страстью собирал и определял растения, составляя гербарий. Вскоре он отлично знал местную флору; воображая себя ученым, писал сочинения по ботанике; все свои деньги отдавал он другим детям и братьям, чтобы заставить их слушать свои лекции. Уже с этого времени вполне определилось его призвание. Ему тогда было восемь лет. По возвращении в Харьков он стал накупать на все дареные ему деньги разные книги по естественной истории. Он читал; их с увлечением, хотя, конечно, многого не понимал; но и это непонятое возбуждало его любознательность. В одиннадцать лет он чуть не поплатился жизнью за любовь к естествознанию. Ловя в пруде гидры для своих наблюдений, он так увлекся, забрасывая сачок, что упал в воду, и его едва спасли. Это было в Ильин день, 20 июля, роковой день, когда ему угрожала не только вода, но и огонь. По семейному обычаю, в Ильин день, на именины Ильи Ивановича всегда съезжалось множество родных и гостей.
Уж задолго шли приготовления к обеду и ужину: весь дом был в суете и хлопотах. Гостей собралось так много, что в доме нельзя было всех разместить на ночлег и детей перевели во флигель. В то время, как гости и хозяева были заняты картами и разговорами, в людской шел пир и попойка, К ночи многие кучера и лакеи, приехавшие с гостями, совершенно перепились. Неосторожно брошенный в сено окурок поджег конюшню. Прежде чем это заметили, пламя охватило все здание; лошадей не успели вывести, и. многие животные погибли. Но вот ветер подул в сторону флигеля; на него посыпались искры, и соломенная крыша вспыхнула. В ужасе бросились спасать детей; их пришлось вытаскивать уже через окно. Несмотря на сильнейший испуг, первая мысль Ильюши была, однако, о маленьком племяннике, Коле, сыне Екатерины Ильиничны, вышедшей замуж год назад. В ужасе бегал Ильюша по всему дому в поисках ребенка и успокоился только, когда узнал, что он на руках матери, в саду.
После „выдачи замуж” Екатерины Ильиничны не было больше необходимости жить в городе. Поэтому решено было взрослым остаться зимовать в Панасовке, а Дмитрию Ивановичу везти детей в Харьков, для определения в гимназию. Подготовка у них была хорошая, благодаря студентам-репетиторам. К тому же они говорили по-французски и знали немного по-немецки, так как у них были гувернеры для иностранных языков.
Monsieur Gautier — веселый хвастун и благёр1—выучил детей главным образом песням Беранже. Страстный охотник, он посвящал охоте как можно больше времени. Мальчики не могли сопровождать его из-за того, что мать боялась за них.
Тревожный характер ее, связанный, быть может, с болезнью сердца, был причиной того, что у детей вообще не развивали никаких спортивных вкусов.
Другой гувернер — немец Иван Самойлович — тоже мало занимался детьми. Его гораздо более привлекала выпивка. Однажды, избрав Ильюшу собутыльником, он так напоил его пивом, что Илья Ильич больше никогда не брал этого напитка в рот.
Гувернеры не имели серьезного влияния на детей; они дали им только элементарное знание языков да оставили по себе несколько забавных воспоминаний. Илья, впрочем, пользовался небрежным отношением гувернеров для того, чтобы со страстью предаваться своим любимым занятиям. Его призвание было так резко выражено, что тогда же решили: «быть ему ученым».
Странным кажется, каким образом в панасовской среде могла развиться в мальчике такая страсть к науке. Первый толчок в этом направлении был дан ему несомненно Ходуновым. Однако влияние учителя, очевидно, послужило только поводом, а не причиной этой страсти. По всей вероятности, она имела более глубокий источник. Чтобы понять его, следует, быть может, обратиться к прошлому семьи Мечниковых.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПРЕДКИ
Мечниковы вообще не отличались семейным тщеславием, но была одна тетушка, очень гордившаяся их происхождением от «великого Спотаря».
Вот что рассказывает о нем Е. Пико на основании молдавской хроники (Hesden) и различных исторических документов2:
«Мало людей имело столько приключений и прославилось столь разнообразными способностями, как Николай Спотарь Милешту (Milestü). Имя его связано одновременно с историей литературы Молдавии, Греции, России и Китая. Его происхождение, таланты, преступление, увечье, которому он подвергся, отважное путешествие, совершонное им через всю Азию с целью пробраться в Пекин, драгоценные сведения, собранные им во время своего посланничества у „сына небес”, — все вызывает наше любопытство».
Спотарь родился в Молдавии около 1625 года. Он очень рано переехал в Константинополь, где изучал теологию, философию, историю, древне- и ново-греческий, славянский и турецкий языки. Затем он ездил в Италию для изучения естествознания и математики. Вернувшись в Молдавию, он скоро приобрел известность своей эрудицией, пользовался почетом и влиянием при дворе. Благодаря ловкости и политическим интригам ему удалось удержаться при нескольких враждебных друг другу властителях. Один из них, Стефанита, осыпал его почестями. Тем не менее Спотарь в полой трости послал в Польшу предложение Константину Сербону свергнуть Стефанита и захватить его престол. Константин, возмущенный такой изменой, отправил трость Стефаниту. Последний сначала хотел казнить Спотаря, но, ввиду его выдающихся способностей, взамен этого велел ему отрезать кончик носа. После этого Спотарь уехал в Германию и, как говорит наивная хроника, нашел там врача, который «отрастил ему новый нос». Спотарь явился в Молдавию, но вскоре совсем переехал в Россию. Благодаря своему обширному знанию языков он сделался драгоманом при Алексее Михайловиче и первым учителем его сына, Петра Первого, которого выучил грамоте. В 1674 году Алексей Михайлович поручил Спотарю миссию в Китай. Он должен был вести переговоры о торговых и политических сношениях между обеими странами. По дороге в Пекин Спотарь тщательно собирал сведения о местностях, через которые проезжал. Он добыл много очень интересных географических данных и указаний относительно громадного торгового значения азиатских рек, особенно Амура. В Пекине Спотарь быстро выучился китайскому языку. Пробыв около трех лет послом в Китае, он вернулся в Россию с богатым материалом собранных сведений и с драгоценными подарками от китайского императора. Все это возбудило зависть придворных. Они воспользовались тем, что возвращение Спотаря совпало со смертью Алексея Михайловича, разными интригами отобрали сокровища Спотаря и сослали его в Сибирь. Через несколько лет, когда воцарился Петр Первый, Спотарю удалось переслать ему письмо с рассказом обо всем случившемся. Петр велел его немедленно вернуть, отдал ему отобранные богатства, советовался с ним о делах Дальнего Востока и сделал его драгоманом при посольстве, поручив ему перевод тайных дипломатических бумаг. С тех пор Спотарь, окруженный всякими почестями, спокойно дожил свой век. Он был женат на русской, имел несколько сыновей и внуков. Позднее племянники его также переселились в Россию и вступили в русскую армию. Спотарь умер в 1714 году, 80-ти лет от роду. Литературная деятельность его была очень разнообразна и обширна. Он первый перевел библию на греческий и румынский языки; писал о происхождении Румынии, теологические статьи, составил греко-латинский словарь: написал сочинение под заглавием «Арифметика», в котором, на основании цифр и чисел, трактовал теологические, философские и этические вопросы. Он писал также по истории, археологии и по искусству. Наконец,
он сделал описание реки Амура, своего путешествия по Сибири и Китаю и перевел множество дипломатических документов. Его познания были так велики, что современники обращались к нему за сведениями, как к энциклопедисту. Такова история великого Спотаря.
В энциклопедии Брокгауз-Ефрон (XIX, 1896, стр. 226) находится следующая заметка: „Мечниковы — дворянский род, происходящий от молдавского боярина и спафария (мечника) Юрия Степановича, выехавшего в Россию в 1711 году с князем Кантемиром и получившего большие имения от Петра Первого. Его сын принял фамилию Мечникова. Род Мечниковых внесен в VI и III части родословных книг Харьковской губернии”.
Юрий Степанович и был, вероятно, одним из племянников великого Спотаря.
В дальнейших поколениях Мечниковых было всего более военных, был моряк, директор горного департамента, сенатор, но не было вовсе людей науки.
Со стороны матери Илья Ильич не имел таких значительных и сказочных предков. Однако Лев Николаевич Невахович, дед Ильи Ильича, был человеком культурным, выдающегося ума. Он был табачным откупщиком в Варшаве. Будучи евреем, он близко принимал к сердцу гонения на своих единоверцев и защищал их в литературе. Тем не менее впоследствии, под влиянием косвенного совета императора Александра I, он принял христианство, но не православие, а лютеранство, так что дети его росли уже в этой религии. Перед началом польского восстания, в 1830 году, его предупредили, что его дом пострадает от революции. Это известие было сообщено ему в то время, как он спокойно сидел в театре. Он тотчас собрался и уехал с семьей из Варшавы. Переселившись в Петербург, он совсем бросил дела и, живя на доходы с нажитого капитала, занялся переводом немецких философов. Вскоре он вошел в сношения с литературным миром, был знаком с Пушкиным и Крыловым. Один из его сыновей, брат Эмилии Львовны, был выдающимся карикатуристом своего времени, издателем юмористического журнала „Ералаш”. Члены семьи Невахович, в том числе и Эмилия Львовна, вообще отличались светлым умом, но между ними не было людей науки. Сам Илья Ильич говорил, что унаследовал свой духовный склад от матери. И действительно, живостью ума и характера, добротой и неисчерпаемой веселостью он вполне напоминал ее.
Во всяком случае среди его предков, как с отцовской, так и с материнской стороны, были незаурядные люди, от которых он мог унаследовать свои способности и любовь к науке
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ
В 1856 году Дмитрий Иванович повез детей в Харьков для определения их в гимназию. Экзамены прошли очень удачно. Коля поступил в 3-й, а Илья — во 2-й класс.
Будучи приходящими, мальчики жили у одного из своих бывших учителей. То было время, полное нарождающихся надежд, с наступлением либерального начала царствования Александра II. В гимназии оставались лишь незначительные следы николаевской эпохи с ее военной выправкой. Уже обнаружилось сильное влияние нового свободного духа. Узкое доктринальное преподавание и зубрение уступали место более рациональным идеям.
Классические языки отступили на задний план, а на первый были выдвинуты история, литература и особенно физико-естественные науки. Учителя стали сближаться с учениками, влиять на их общее развитие. Среди гимназистов возникали кружки самообразования, устраивались воскресные школы, занимались социальными вопросами; зарождалось революционное направление. Настроение было живое, стремления высокие, надежды — светлые. Первый год своего поступления в гимназию Илья прилежно занимался всеми предметами, так что скоро попал на золотую доску. Его полюбил учитель русского языка Парфенов и много способствовал его развитию, руководя его общеобразовательным чтением. Между прочим Илья читал под его руководством историю цивилизации Бокля, имевшего тогда большое влияние на русскую молодежь. Основное положение автора, согласно которому человечество движется успехами положительного знания, — глубоко запало в душу мальчика и еще больше упрочило его стремление к науке. В 3-м классе он сблизился с одним из товарищей — Богомоловым, тоже имевшим сильное влияние на его дальнейшее развитие. Богомолов был сын фабриканта красок. Старшие его братья в интересах предприятия занимались химией в Харьковском университете. Они ездили за границу и привозили оттуда новые идеи и запрещенные книги.
Они сообщали их своему младшему брату, тот в свою очередь посвящал Илью, который таким образом познакомился с материализмом и с политическими теориями. Он читал «Полярную Звезду», «Колокол» Герцена и многие другие запрещенные издания. Постепенно он перестал верить, несмотря на то, что в детстве, под влиянием матери, он был очень религиозен. Безбожье, однако, скорее заинтересовало его, чем огорчило. Оно вызвало в нем общее критическое отношение. Он стал проповедовать атеизм со свойственной ему страстностью, так что его прозвали: «бога нет». Критическое отношение он распространял и на преподавание: в 4-м классе перестал заниматься предметами, казавшимися ему неинтересными; зато с жаром набросился опять на естественную историю, ботанику и геологию. Хотя он перестал быть образцовым учеником, но стремление его к науке укреплялось все более и более.
В продолжение курса 3-го и 4-го классов мальчики жили в пансионе Карла Ивановича Шульц, заведении для «благовоспитанных детей», куда родители поместили их для изучения «языков и хороших манер». Нравы пансиона были крайне патриархальны и стеснительны; пища — дурная, нотации Карла Ивановича—скучные, с уроками танцев в придачу, — все это внушало Иле полное отвращение, и он твердо решил упросить родителей позволить ему с братом поселиться на частной квартире. Одно время Илья посещал воскресные школы и студенческие кружки, однако не был захвачен всеобщим политическим увлечением. Он чувствовал, что его настоящее, глубокое призвание — наука. Она так рано всецело поглотила его, что впоследствии он оставался в стороне даже от движения в пользу освобождения крестьян. Это объясняется еще и тем, что в Панасовке крестьянам не было плохо; вопрос о их положении не носил того острого характера, как в других местностях. Тем не менее одно всепоглощающее увлечение наукой могло, несмотря на возвышенную, отзывчивую природу юноши, отвлечь его от благородного освободительного движения. В 1858 году Богомолов уехал из Харькова, и в 5-м классе Илья сошелся с другими товарищами — Зеленским и Масловским. Все они горячо интересовались наукой и много читали. Благодаря своей живости и страстности Илья играл роль фермента в новом кружке. Решено было образовать союз, в котором каждый из членов занялся бы известной научной областью, с целью всем вместе составить род новой энциклопедии. Илья изучал немецкий язык, чтобы в подлинниках читать классиков материализма— Фихте, Фейербаха, Бюхнера, Молешота. Гимназическое учение отошло на задний план, хотя благодаря своим способностям Илья продолжал быть хорошим учеником и удачно сдавал экзамены. Программа его будущей деятельности окончательно определилась по следующему поводу. В то время общего умственного брожения на книжный рынок поступало множество переводных сочинений по естествознанию. Илья жадно поглощал их. Между прочим он прочел в русском переводе сочинение Брона: „Классы и порядки животного царства”. На приложенных таблицах он впервые увидел мир микроскопических организмов: амеб, инфузорий и корненожек. Этот мир простейших произвел на него такое глубокое впечатление, что он тут же твердо решил посвятить себя изучению низших ступеней животного царства, проявления жизни в ее простейшей форме. Ему тогда было пятнадцать лет.
При переходе в 5-й класс мальчики получили, наконец, позволение поселиться на частной квартире. Это дало им возможность свободнее следовать своим личным вкусам. Вне гимназии Коля проводил время за картами, биллиардом и другими развлечениями. Илья усердно работал; вставал и ложился рано. Единственным его развлечением была музыка, которую он; страстно любил, да разговоры на отвлеченные темы с товарищами. Перейдя в 6-й класс, он уже вполне специализировался Для того, чтобы иметь возможность серьезнее работать, он задумал войти в сношения с каким-нибудь из профессоров. В то время в Харьковском университете царили еще старые методы преподавания. Курс проходили по шаблонным учебникам, без всяких практических занятий. Но Илья не знал всего этого и мечтал найти в лабораториях поощрение и возможность, наконец, приняться за настоящую научную работу. Переодевшись в штатское платье, чтобы не произвести впечатления «мальчика», он пошел на лекцию сравнительной анатомии. По окончании лекции он с волнением обратился к профессору с просьбой позволить ему заняться протоплазмой под его руководством. Профессор принял его холодно и сухо; поучительным тоном сказал он: «Рано, молодой человек, захотели вы приняться за научные вопросы. Кончайте-ка прежде гимназию и поступайте в университет». Это обдало холодной водой бедного юношу, но, несмотря на свое огорчение, он не унывал. Продолжая посещать лекции, он присматривался, к кому бы другому обратиться с большими шансами на успех. Ему очень нравились лекции Щелкова, молодого физиолога, недавно вернувшегося из-за границы, и он решился сделать новую попытку. На этот раз она была удачнее: Щелков принял его любезно и согласился давать ему частные уроки. Под его руководством Илья познакомился с основами гистологии. Увлеченный целлюлярной теорией Вирхова, он страстно желал произвести что-нибудь самостоятельное в научной медицине, мечтал создать, подобно Вирхову, какое-нибудь новое общемедицинское учение. Он старался всячески расширить свои знания. Вместе с Зеленским взялись они переводить (с французского перевода) «Единство физических» сил Грове. Заинтересовавшись юношами, учитель естествознания и химии в гимназии, Тихонович, стал помогать им, и этой работе был посвящен весь учебный год.
Илья пользовался всякой свободной минутой для своих занятий. Даже за «неинтересными» уроками читал он потихоньку научные книги. Как-то раз за законом божим, зачитавшись, он не заметил, как к нему подошел законоучитель; взяв из рук юноши книгу, он был совершенно озадачен, увидя сочинение Радлькофера „О телах, содержащих кристаллы протеина”. Прочитав такое ученое название, батюшка молча вернул ему книгу и больше никогда не беспокоил его. Через студентов-медиков Илье удалось достать микроскоп. Он исследовал инфузорий и вообразил, что сделал интересное открытие. Тотчас написал он статью и отправил ее в единственный, существовавший тогда в России научный журнал «Бюлетень Московского Общества Испытателей Природы».
Он был обрадован согласием редактора поместить его статью, но тут же сам нашел, что сделал ошибочные выводы, приняв явление регенерации за размножение. Тотчас написал он в редакцию, чтобы остановить печатание. Так эта первая статья и не увидела света. На время каникул Щелков одолжил Илье микроскоп, и он мог в Панасовке хорошо изучить местную фауну простейших. Перейдя в 7-й класс, он прочел руководство геологии харьковского профессора Леваковского и с юношеской самоуверенностью написал на нее рецензию. Это было его первое печатное произведение. Ему было тогда шестнадцать лет. Увлеченный успехами, он послал еще несколько рецензий, но они не были помещены.
Однако приближалось время выпускного экзамена. Илья во что бы то ни стало хотел кончить с золотой медалью; добивался он этого не из одного самолюбия, но также для того, чтобы доказать родителям серьезность своих занятий и получить возможность ехать за границу для дальнейшего научного образования. Поэтому на время он отложил любимые занятия и серьезно принялся за заброшенный им гимназический курс. Окончательные экзамены происходили весной 1862 года. В Харьков приехала итальянская оперная труппа, и Илья не был в силах удержаться от музыкального соблазна. Несмотря на такое усложнение, экзамены прошли блестящим образом, и он получил золотую медаль. Теперь все помыслы его были сосредоточены на том, чтобы как можно скорее приняться за научную работу.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПРОБЛЕСКИ ЛЮБВИ
Несмотря на свое раннее призвание, Илья вовсе не был равнодушен к окружающей жизни. Душа его была впечатлительна и отзывчива, привязанности — нежны и глубоки. Самая сильная из них была к матери. Между ними было сродство душ, нежные, доверчивые отношения; он ничего не предпринимал, не посоветовавшись с нею. Это было потребностью его сердца, сохранившеюся и в зрелом возрасте.
Первое подобие влюбленности испытал он очень рано — в 6 лет. Однажды в Панасовку в гости приехала знакомая семья с восьмилетней девочкой. Прелестная, грациозная, с вьющимися волосами, свеженькая — она походила на живой цветок. Илья не мог оторвать от нее глаз. Он всячески ухаживал за нею, рвал ей цветы и ягоды, занимал играми, старался показать себя в наилучшем виде.
Он испытывал необычное волнение и радость от ее присутствия, мечтал, чтобы она никогда не уезжала. Но визит был непродолжительный. Первая идиллия мальчика быстро кончилась и сменилась новыми впечатлениями. Тем не менее Илья Ильич навсегда сохранил в памяти образ хорошенькой девочки, хотя больше никогда не видел ее.
Второй раз Илья влюбился уже гимназистом в сестру товарища. Встречая ее на улице на прогулках, он издали любовался ею, искал этих встреч и мечтал о ней в течение полугода. Но вскоре она была вытеснена другой, уже более серьезной привязанностью.
При переходе в 5-й класс он, как всякое лето, поехал на каникулы в Панасовку. Там появилось новое лицо — молодая жена его старшего брата. Мало-помалу, к собственному удивлению, он стал замечать, что образ хорошенькой девушки все
более заслоняется его молодой belle-soeur. Вскоре она совершенно овладела его сердцем. Она составляла резкий контраст со всеми панасовскими обитателями. Хорошенькая, светская, она скучала в деревне, относилась свысока и критически к простым панасовским нравам, чем восстановила всех против себя. Чувствуя себя изолированной, она, скуки ради, постаралась привлечь приехавших юношей. Отношения, вначале приятельские, вскоре со стороны отзывчивого Или стали более нежными. Она действовала на его доброе сердце. Жалуясь на непонимание, на враждебное к ней отношение, она возбуждала его сочувствие и жалость. Он сделался ее горячим защитником. Из-за нее часто происходили у него столкновения даже с матерью, которую он укорял в мнимых несправедливостях.
Чувства его к belle-soeur превратились в юношескую, чисто платоническую, но реальную любовь, длившуюся, вместе с влиянием молодой женщины, около четырех лет. Затем, разочаровавшись, он охладел к ней. Тем не менее она была его первой серьезной любовью.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ
Из посещения университетских лекций в течение последних гимназических классов и из слышанного от студентов Илья заключил, что мало может почерпнуть в Харьковском университете для научных исследовании.
В те времена русскую молодежь особенно привлекали немецкие университеты. В них была целая плеяда знаменитых профессоров и лабораторий, широко открытых иностранцам.
Мечтая поехать учиться туда, Илья стал уговаривать мать отпустить его. Добиться ее согласия было нетрудно, так как она глубоко верила в научную будущность сына и от всей души желала помочь ему. Она взяла на себя убедить мужа. Несмотря на скудные средства, деньги достали и снарядили юношу в путь. Он решил ехать в Вюрцбург, к знаменитому профессору Келликеру, потому что тот читал гистологию, а Илью всего более влекло изучение протоплазмы. Думая, что в Германии каникулы совпадают с русскими, и что занятия начнутся с сентября, он торопился попасть туда заранее.
В те времена путешествие было длинное, сложное. Однако, несмотря на утомление, он остановился всего на день в Берлине и поехал закупать нужные книги в книжный центр — Лейпциг. Приехав туда вечером, он был в некотором смущении, не зная, где остановиться. К счастью, какой-то молодой немец на вокзале предложил ему взять комнату на его квартире, куда и повел его. На следующее утро Илья вышел очень рано и побежал покупать свои книги. Второпях он не обратил внимания ни на номер дома, ни на название улицы, и на обратном пути ему долго пришлось бродить, пока он нашел дорогу. Расстроенный этим, он поспешил уехать в Вюрцбург. Оказалось, что каникулы в полном разгаре. Ни Келликера ни других профессоров не было в городе; занятия должны были начаться только через шесть недель.
Впервые очутившись в полном одиночестве, среди чужих людей, бедный юноша совсем растерялся.
Ему указали на квартиру русских студентов. Полный надежды, он радостно бросился туда. Но соотечественники встретили его недоверчиво и холодно. Получив от них лишь несколько сухих указаний, он грустно отправился искать квартиру и нашел комнату у каких-то сердитых стариков. Принеся свои вещи, он стал раскладываться. Но вдруг на него напала такая тоска, что он наскоро опять уложился и объявил, что уезжает. Изумленные и рассерженные старики стали бранить его. Это окончательно расстроило его, и он торопливо уехал на вокзал. Дождавшись первого поезда, он пустился в обратный путь, безостановочно, до самой Панасовки. Появление его, конечно, вызвало всеобщее удивление. Тем не менее, видя его волнение, его приняли благодушно. В глубине души мать была рада его возвращению, так как отпускала его со страхом.
Таким образом кончилась эта первая, столь желанная, столь неудачная поездка за границу. Вероятно, ничего подобного не случилось бы, если бы он приехал к началу занятий, или если бы русские студенты встретили его теплее. Он был слишком молод, слишком впечатлителен и нервен, чтобы вынести полное одиночество. Одни любимые занятия или дружелюбная среда могли бы поддержать его.
Таким образом простое неудачное стечение обстоятельств перевернуло все его планы и мечты.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. УНИВЕРСИТЕТ
Выбора больше не было. Решено было поступить в Харьковский университет.
Рассказ об этом периоде будет краток: он был лишь мимолетным эпизодом в жизни Ильи Ильича. «Alma mater» не имела на него того направляющего влияния, не оставила по себе тех дорогих воспоминаний, как обыкновенно в жизни молодежи.
В то время, как в гимназию широко проникло новое направление, Харьковский университет оставался крайне отсталым. Это зависело от того, что учителя гимназии были молодые люди, сами недавно кончившие курс, — профессора же, большей частью, были пожилыми людьми старого закала. Скорее чиновники, чем ученые, они довольствовались старинными методами преподавания. Лекции читались по отсталым учебникам; практических занятий почти вовсе не было. Некоторые из старых профессоров пили, другие относились к своему делу халатно или по-чиновнически. На естественном и медицинском факультетах в то время было только два молодых адъюнкта (доцента) нового направления, настоящих ученых и «учителей» молодежи. Это были химик Бекетов и физиолог Щелков. У них одних можно было серьезно заниматься; остальные лекции были одной формальностью.
Илья Ильич хотел поступить на медицинский факультет, но мать отговаривала его. «У тебя слишком мягкое сердце, — говорила она, —ты не будешь в состоянии постоянно видеть страдания людей». Щелков также советовал ему поступить на естественный факультет, более подходящий для чисто-научной, деятельности. Илья Ильич на это и решился и стал заниматься физиологией в его лаборатории. Так как юноше хотелось сейчас же приняться за самостоятельную работу, то Щелков предложил ему исследовать стебелек одной ресничной инфузории — сувойки, или вортицеллы. Надо было установить, представляет ли этот стебелек аналогию с мускульной тканью и так же ли, как она, относится к различным реактивам. Тщательные исследования привели Илью к отрицательным выводам. Свои результаты он напечатал в 1863 году в «Мюллеровском Архиве». Вскоре появилась статья знаменитого физиолога Кюне, который вызывающе резко опровергал его. Это крайне огорчило молодого человека; однако возражения еще более возбудили его энергию: он тотчас повторил свои опыты и, получив прежние результаты, ответил Кюне также довольно резко, задетый тоном его статьи. Однако влекомый к задачам более широкого, общего характера, он стремился к вполне самостоятельной работе. Во время своего неудачного путешествия за границу он накупил в Лейпциге много вновь вышедших научных сочинений; между ними был перевод «Происхождения видов» Дарвина. Эволюционная| теория произвела на юношу глубочайшее впечатление. Мысль его тотчас стала работать в этом направлении. Ему приходило в голову, что, быть может, животные, стоящие особняком и не нашедшие места в определенных родах, могут пролить свет на связь между последними, на их генеалогию. На этом основании он стал исследовать оригинальных пресноводных животных, похожих на коловраток, но приближающихся в то же время к некоторым червям из группы круглых червей. Ему действительно удалось составить из них новый промежуточный и связывающий отряд, который он назвал брюхоресничными (Gasterotricha) и который затем стал общепризнанным. В этих занятиях прошел весь первый курс.
Видя, что от самого университета он почерпнет немного, Илья Ильич решил сократить пребывание в нем и пройти весь четырехлетний курс в два года. Но так как студентам это не было дозволено, то он уволился с тем, чтобы поступить вольнослушателем и держать экзамен прямо на кандидата. Поэтому на второй год он вовсе не занимался научными работами, а готовился вместе со студентами 4-го курса к испытанию на кандидатскую степень. Экзамены вновь совпали оперным сезоном. Отдаваясь своей страсти к музыке, он в то же время усиленно готовился, и экзамены прошли блестящим образом. Он кончил первым кандидатом. Это было в 1864 году, ему было 19 лет.
Быстрота, с которой он прошел университетский курс, имела, однако, и отрицательную сторону, неизбежно вызвав пробелы в его образовании. Впоследствии это часто давало себя чувствовать и всегда вызывало в нем большое сожаление. Сокращенное пребывание в университете и ускоренный темп работы лишили его возможности сближаться со студентами; последние же, увлекаясь главным образом политикой, мало интересовались юношей, всецело поглощенным наукой. Таким образом в университете он не имел тех привлекательных товарищеских отношений, какими пользовался в гимназии. Помимо Щелкова, другие профессора не оказали направляющего, глубокого влияния на его развитие, и пребывание в университете промелькнуло лишь бледным эпизодом в его жизни.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПРЕБЫВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ. ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Илье Ильичу оставалось еще приготовить кандидатскую диссертацию, и он решил съездить на два месяца на остров Гельголанд, издавна привлекавший зоологов своей богатой фауной. Несмотря на первую неудачную поездку, родители охотно дали ему согласие, снабдили небольшой суммой денег, и в 1864 году он уехал за границу.
На Гельголанде он тотчас принялся за работу, преследуя свою мысль о значении отдельно стоящих оригинальных форм, могущих служить звеньями между животными группами и тем освещать их генетические отношения. Интенсивностью работы он обратил на себя внимание некоторых немецких ученых, и один из них представил его знаменитому ботанику Кону. Последний заинтересовался им, давал ему советы, они вместе гуляли и вели научные беседы, полные интереса для юноши. Кон советовал ему поработать некоторое время в Германии у знаменитого зоолога Лейкерта. Эта мысль очень улыбалась Илье Ильичу; он решил привести ее в исполнение, несмотря на затруднение, заключавшееся в недостатке денег для продления пребывания за границей. Он не хотел просить новой субсидии у родителей, зная, что и деньги, данные ему на поездку, были собраны с трудом. Поэтому он выполнил следующий план, изложенный в письме к матери, постоянной поверенной всех его намерений и мечтаний. Вот что писал он ей:
Гельголанд, 31 июля/12 августа 1864 г.
«Милая мама... я думаю остаться на острове еще целый месяц, по прошествии которого я поеду (желаю поехать) на десять дней в Гиссен, где будет от 17/5 до 25/13 сентября собрание натуралистов и врачей со всей
Европы. Это собрание слишком заманчиво, чтобы я не предпринял всевозможных средств для того, чтобы посетить его; кроме большой пользы от совещания с ученейшими людьми, я имею возможность заняться в богатейших коллекциях профессора Лейкерта, что очень важно для довершения моих работ на морском берегу, которые продолжают идти очень успешно. Для приведения в исполнение моего горячего желания воспользоваться такими сокровищами я должен прожить лишних три недели на Гельголанде, сделать путешествие в Гиссен и обратно и прожить в Гиссене десять дней на ту сумму, с которой я думал протянуть да 24/12 августа... Вместо квартиры в гостинице я нанял себе комнату у одного рыбака, за которую плачу вдвое дешевле. Вместо обеда и кофе, которые я имел, я питаюсь чем бог пошлет издерживая 30 коп. на еду (которая здесь дешевле, так как все получается из Гамбурга или из Англии); вместо двух или трех раз я переменяю белье один или два раза в неделю (за что плачу меньше прачке). Таким образом сбереженные деньги с прибавлением моей запасной суммы (которую я берег для первоначальной жизни в Петербурге) составляют достаточный капитал, на который я могу доставить себе столько пользы и наслаждения: 1) я пробуду лишних три недели на морском берегу и тем значительно увеличу свои познания и коллекции; 2) я посещу собрание и 3) буду работать в коллекциях Лейкерта и пользоваться его советами и книгами. Ради бога не сочти описание моей новой жизни за жалобу или ропот; наоборот, я так счастлив, имея в виду столько пользы, и еще тем, что я не могу упрекнуть свою совесть в бесполезном растрачивании денег, добытых любовью и заботой, что в такой обстановке я готов бы находиться почаще. Пожалуйста не вообрази также, чтобы я занятиями расстроил свое здоровье; даю тебе честное слово, что до сих пор у меня даже ни разу голова не болела. Да я и не верю, чтобы занятиями можно расстроить здоровье: я видел много ученых немцев, которые кулаком вола убьют. Вообще я умоляю тебя быть насчет меня совершенно спокойной, тебе и без меня много тяжелых забот, а я теперь поставлен в такие хорошие условия, что, кажется, печалиться нечего. Крепко целую твои ручки и остаюсь любящий тебя Ил. Мечников... Пиши, пожалуйста, чаще. Я так дорожу каждым твоим словом».
Он не говорил матери, что живет впроголодь. Он не хотел также, чтобы об этом знали Кон и другие знакомые, и тщательно скрывал от них свой образ жизни.
К открытию съезда он поехал в Гиссен и с успехом сделал два сообщения о своих исследованиях на Гельголанде. Он и Энгельман, впоследствии сделавшийся знаменитым физиологом, были такими юными членами конгресса, что обращали на себя всеобщее внимание. При первом знакомстве Лейкерт крайне понравился Илье Ильичу, и он решил немедленно заниматься у него. Ввиду этого он стал хлопотать о получении стипендии от русского министерства народного просвещения и о заграничной командировке. По просьбе родных за него ходатайствовал бывший министр народного просвещения Евграф Ковалевский. Лейкерт написал рекомендательное письмо Пирогову, и стипендия была выдана на два года, по 1600 руб. в год.
Гельголандские исследования привели Илью Ильича к предположению, что нематоды1 составляют совершенно самостоятельную группу, и он хотел теперь окончательно разъяснить этот вопрос. Лейкерт, уезжая на каникулы, позволил ему работать в своей Лаборатории. Илья Ильич рьяно принялся за исследования и, между прочим, открыл интересный, тогда совершенно новый факт перемежающегося размножения; он нашел, что гермафродитные паразитические нематоды дают свободно-живущее раздельнополое потомство. Когда Лейкерт вернулся, Илья Ильич с волнением и восторгом сообщил ему свое открытие. Лейкерт сначала отнесся к нему недоверчиво, но должен был признать очевидность, когда Илья Ильич показал ему все переходные стадии развития. Знаменитому ученому, видимо, было очень неприятно, что молодой человек сделал это открытие самостоятельно, в его отсутствие. Он предложил ему продолжать работу вместе и напечатать ее сообща. Илья Ильич с удовольствием согласился на это. Он работал так много, что у него разболелись глаза, и он уже не мог микроскопировать более нескольких минут под-ряд. Лейкерт стал убеждать его уехать на время отдохнуть.
С этим как раз совпал переезд брата Ильи Ильича, Льва Ильича, в Женеву, и Илья Ильич поехал к нему. Братья давно уже не видались. Лев Ильич много скитался и странствовал. У него была натура необыкновенно подвижная, отзывчивая, художественная; но он никак не мог остановиться на выборе определенной деятельности и разбрасывался. Это помешало ему произвести все то, на что была способна его богато одаренная природа. Обладая выдающимися лингвистическими способностями, он знал не только много европейских языков, но также и восточных. Он ездил в Малую Азию, где одно время служил в обществе пароходства и торговли; затем жил в Италии и принимал деятельное участие в гарибальдийском движении, во время которого был ранен. Он занимался живописью и литературным трудом, к чему имел большое дарование. Талантливый, остроумный, блестящий, красивый, к тому же необыкновенно добрый и мягкий, он производил чарующее впечатление. Илья Ильич очень любил его и радовался свиданию с ним. Он застал его среди молодых людей, стоявших вокруг стола с разложеннной географической картой. Дело шло о покупке земли в Италии для устройства коммуны. Лев Ильич, хорошо знавший страну, должен был выбрать подходящее место. Тотчас стали посвящать Илью Ильича в политику, но она производила на него отрицательное впечатление, сводясь главным образом в его глазах к партийным распрям, к догматическим спорам, основанным на шатких началах. Он уже слишком привык к научным методам для того, чтобы удовлетворяться недостаточно обоснованными теориями.
Наоборот, необыкновенно глубокое впечатление произвел на него Герцен, живший тогда в Женеве. Молодое поколение революционеров относилось к нему отрицательно, считая его деятельность слишком литературной, теоретической, и стремилось, напротив, к более активному образу действий.
Однако Лев Ильич оставался одним из немногих горячих сторонников Герцена. Часто вечером собирались у последнего, и он блестяще читал своим гостям «Былое и думы» в рукописи. Герцен производил глубокое, почти подавляющее впечатление мощью ума, остроумием и благородством всей своей личности. Обаяние его было так велико и неотразимо, что осталось одним из самых сильных впечатлений жизни Ильи Ильича. Это пребывание в революционном центре очень заинтересовало его, но в то же время он еще больше укрепился в мысли о превосходстве научной деятельности над политической и в том, что избрал благую часть.
После некоторого отдыха Илья Ильич направился обратно в Гиссен, остановившись по дороге в Гейдельберге; в то время там был центр русской учащейся молодежи, группировавшейся вокруг Гельмгольца, Кирхова, Бунзена. Сейчас же побежал он в библиотеку просмотреть научные журналы. Одним из первых, попавшихся ему был «Göttinger Nachrichten» со статьей Лейкерта о нематодах, исследованных ими вместе. Лейкерт описывал все, как найденное ими совместно, так и одним Ильей Ильичом, от своего имени; лишь в одном примечании упоминал он, что в работе помогал ему кандидат Мечников. Это глубоко огорчило и возмутило Илью Ильича. Вернувшись в Гиссен, он безуспешно пытался объясниться с Лейкертом, который систематически уклонялся от всякого ответа1.
Крайне удрученный всем этим, юноша поверил свое горе зоологу Клаусу, которого знал со времени Гиссенского съезда. Последний ответил ему, что такой образ действий характерен для Лейкерта и что следовало бы, чтобы Илья Ильич, в качестве независимого иностранца, разоблачил его. Он так взвинтил его, что тот, наконец, решился послать статью в журнал Дюбуа-Реймона, где изложил случившееся, и уехал из Гиссена, не простившись с Лейкертом.
Благодаря полученной двухгодичной стипендии Илья Ильич мог теперь направиться на берег моря для продолжения своих исследований. Еще в России доносились до него слухи о многообещающем, талантливом молодом зоологе Александре Онуфриевиче Ковалевском, который, в свою очередь, слыхал об Илье Ильиче и написал ему восторженное письмо о богатстве зоологического материала и об удобствах работы на Средиземном море. Поэтому, покинув Гиссен в 1865 году, Илья Ильич направился в Неаполь. Хотя цель этой поездки его была научная, но он надеялся, что и само путешествие произведет на него сильное впечатление. Но воображение рисовало ему столь грандиозные картины стран, которые ему предстояло видеть, что Италия, как раньше Швейцария, не произвела на него ожидаемого впечатления. Флоренция, где он остановился, не увлекла его. Он утомлялся от музеев, потому что видел сразу слишком много произведений искусства, без предварительной подготовки.
Да и вообще он не был очень чувствителен к пластическому искусству. Во время своего торопливого путешествия он лишь поверхностно мог видеть страну; не имея времени проникнуться красотами ее, он чувствовал себя разочарованным. Поэтому еще более торопился он в Неаполь, куда гораздо сильнее влекли его работа и знакомство с Ковалевским.
Ковалевский был с виду застенчивый, сдержанный, хотя очень сердечный юноша. Его ясные глаза светились мягкостью и детской чистотой; сразу в нем чувствовался идеалист, носитель священного огня, — наука была его религией, в своей страсти к ней он не останавливался ни перед какими жертвами, никакие препятствия не были непреодолимыми для него. Скоро всякий чувствовал, что этот маленький, застенчивый и мягкий человек — силач, боец безграничной энергии, когда дело коснется науки. Благодаря этому общему культу и страсти молодые люди сошлись очень быстро, несмотря на разницу характеров. Они сразу произвели друг на друга хорошее впечатление, и с тех пор между ними завязалась дружба, длившаяся всю жизнь. В Неаполе они работали запоем, совершали совместные экскурсии, с увлечением делились мыслями и планами, и эта общность вкусов и стремлений придавала еще большую прелесть их дружбе.
В Гиссене Илья Ильич прочел книгу Фрица Мюллера «В пользу Дарвина» . Чтение это оказало решающее влияние на направление его дальнейших работ. Фриц Мюллер первый конкретным образом подтвердил эволюционную теорию Дарвина на истории развития ракообразных, доказав, что эмбриология может дать ценные указания относительно генеалогии животных1. Под влиянием этого сочинения Илья Ильич, до сих пор делавший, так сказать, одни «научные разведки», решил сосредоточиться на сравнительном изучении эмбриологии животных. В Неаполе он и стал работать в этом направлении с обычной страстностью. Он все более и более приходил к убеждению, что ключ к эволюции и генеалогии животных следует искать в наиболее ранних стадиях их развития, где они являются в самой простой форме и всего менее еще видоизменены под влиянием внешних условий. На этих первых стадиях развития наблюдаются существенные и общие черты, обнаруживающие аналогию и связь между животными различных групп. Все животные вначале одноклеточны, так как яйцевая клетка, общая всем им, соответствует одноклеточному организму. Только после оплодотворения эта первичная яйцевая клетка начинает развиваться, последовательно делясь на сегменты, каждый из которых соответствует новой клетке. Явление это сходно с размножением посредством деления одноклеточных существ. Разница в том, что сегменты яйца не становятся независимыми особями и совместно образуют полый шар, названный бластулой.
Это — первое проявление многоклеточного организма. В бластуле обособляются слои — листки или зародышевые пласты, каждый из которых дает начало определенным органам зародыша. Внешний пласт — эктодерма—производит покровы и нервную систему; внутренний пласт — энтодерма — клетки (эндотелиальные), выстилающие пищеварительные и внутренние органы; наконец между этими двумя пластами обособляется третий пласт — мезодерма, дающий начало скелету, кровяной и мускульной системам.
История развития этих пластов была уже хорошо изучена у позвоночных, но очень мало у беспозвоночных. Между тем для выяснения происхождения и общей эволюции животных необходимо знать историю развития низших форм, от которых происходят остальные. На основании этих соображений в течение многих лет главной темой исследований Ильи Ильича стало сравнительное изучение зародышевых пластов низших животных и дальнейшей судьбы их составных элементов в разнообразных группах беспозвоночных. Работая в этом направлении, ему удалось доказать, что развитие беспозвоночных следует тем же законам и совершается по тому же плану, как и развитие высших животных, что существует, следовательно, реальная связь между всеми живыми существами, — конкретное подтверждение эволюционной теории. Своими исследованиями Илья Ильич вместе с Ковалевским содействовали созданию сравнительной эмбриологии.
Сравнительные ислледования происхождения клеток из различных зародышевых пластов и изучение дальнейшего развития и функций этих клеток привели Илью Ильича к наблюдению внутриклеточного пищеварения, ставшего впоследствии основой его будущей фагоцитной теории воспаления и вообще всего его дальнейшего учения. Таким образом, от начала до конца его научной деятельности можно проследить непрерывную логическую связь.
Несмотря на всепоглощающую работу, Илья Ильич интересовался также и окружающей жизнью. Во время своего первого пребывания в Неаполе он познакомился с двумя выдающимися личностями — Бакуниным и Сеченовым. Они жили тогда в Сорренто. Илье Ильичу и Ковалевскому очень хотелось познакомиться с обоими, но они не решались идти к ним. Наконец после долгих колебаний отправились.
Бакунин, колосс с львиной головой и серой гривой, производил впечатление страстного энтузиаста и сектанта. Он так легко увлекался, что стоило ему прочесть в газетах о каком-нибудь чисто местном незначительном бунте, чтобы сейчас предсказывать близкую, неизбежную революцию в России. Его теории сводились к тому, что „надо камня на камне не оставить”. Но на вопрос, «чем заменить разрушенное?» — он отвечал: «это уж видно будет после». Он увлекал своею пылкой мощью, но, по мнению Ильи Ильича, не был вовсе глубок.
Совсем иное впечатление производил Сеченов на молодых людей. Он импонировал глубиной ума, убедительностью речи и серьезным отношением ко всему. Его лицо монгольского типа было скорее некрасиво; но великолепные глаза, умные, глубокие, проницательные и добрые, освещали его поразительной внутренней красотой, которой нельзя было забыть. Идя к нему, Илья Ильич внутренне боялся своей неподготовленности по физике и химии, так как успел пройти их лишь поверхностно в свое кратковременное пребывание в университете. Несмотря на эту причину стеснения, между ним и Сеченовым сразу установилось духовное общение и свободный обмен мыслей. Тут же была заложена между ними та симпатия, которая потом развилась в глубокую дружбу всей жизни. На следующий день Илья Ильич опять пошел к нему, чтобы развить ему свои планы исследований эмбриологии низших животных в связи с эволюционной теорией.
Сеченов так горячо поощрял его, что Илья Ильич навсегда остался благодарным ему за такое отношение к первым шагам его самостоятельной научной деятельности.
В это пребывание в Неаполе он работал очень много, так что у него бывали периоды переутомления. Для отдыха он читал философские и исторические книги. Когда уехал Ковалевский, он примкнул к Бакунинскому кружку, члены которого обедали вместе в ресторане благозвучного названия «Trattoria dell'Armonia».
Осенью в Неаполе вспыхнула холера. Наступило всеобщее подавленное и угнетенное настроение. Оно усугублялось разными мрачными обычаями страны: погребальным звоном, следованием за гробом людей в длинных мантиях, капюшонах с разрезами для одних глаз, дымящимися факелами и т. п. Илья Ильич очень боялся эпидемии и упал окончательно духом, когда смерть скосила одного из членов их кружка — общую любимицу, милую англичанку, которая вовсе не боялась холеры, была бодрой и веселой. Однажды она не пришла обедать, у нее оказалась холера, и на следующий день она умерла. Илью Ильича это так поразило, что его уже расстроенные нервы не выдержали; он покинул Неаполь, тем более, что был в периоде сильного переутомления.
Он направился в Геттинген, к профессору Кэфферштейну, у которого хотел поработать над позвоночными, еще не изученными им. Кэфферштейн начал с того, что дал ему отпрепаровать какую-то редкую ящерицу. Илья Ильич отличался нелюбовью ко всякой технике, несовместимой с его живостью и нервностью: руки его дрожали, препарированье не удавалось, он раздражался, иногда доходил до ярости, ругался и швырял свой материал. Так и теперь: совершенно испортив драгоценную ящерицу, он получил еще большее отвращение к технике, вскоре бросил Кэфферштейна и перешел к знаменитому анатому Генле (Henle). Очень недолго проработав у него на заданную тему — гистологию почек лягушки, он решил, что более совершенно не способен к школьной дисциплине и вновь обратился к самостоятельным исследованиям. Когда дело касалось интересующих его вопросов, стремление решить их преодолевало его отвращение к технике, и он отлично справлялся с нею. Он занялся историей развития травяных вшей с эволюционной и генетической точек зрения. После этого он поехал на летний семестр в Мюнхен, думая поработать у знаменитого зоолога Зибольдта, типичного почтенного старого немецкого ученого. Но оказалось, что он уже слишком стар, чтобы принимать учеников, и Илья Ильич стал самостоятельно исследовать эмбриологию насекомых. Однако он часто навещал Зибольдта, с которым вел интересные научные разговоры; у них навсегда сохранились самые хорошие отношения, и они впоследствии всегда переписывались.
Во время пребывания молодого человека в Германии музыка была почти единственным его развлечением. Сам он не играл ни на каком инструменте.
Родители не учили его музыке, обескураженные тем, что ни сестра его, ни старшие братья не обнаружили успехов в этой области. К тому же его раннее научное призвание не позволило бы ему серьезно заниматься ничем посторонним. А между тем он был необыкновенно одарен и страстно любил музыку. Он умел только насвистывать и с помощью этого слабого средства мог воспроизводить решительно все слышанное, от простой арии до мотивов самой сложной симфонии. Благодаря распространенности концертов в Германии, он мог серьезно ознакомиться с классической музыкой. Моцарт и Бетховен навсегда остались его любимыми композиторами.
За время пребывания в Германии он оценил немецких ученых и с уважением относился к их огромной трудоспособности и серьезности. Он восхищался организацией их лабораторий, позволяющей утилизировать все силы, как крупные, так и мелкие, и выполнять, благодаря этому, коллективные работы, столь полезные при сложных исследованиях, требующих сотрудничества различных специалистов. Тип же немецкого студента, напротив, вызывал в Илье Ильиче настоящее отвращение. Их корпорации, поединки, вечное пребывание в пивных — все было ему антипатично. Он спрашивал, как эти грубые «бурши» могли превращаться в культурных и почтенных ученых. Ему отвечали, что это «брожение молодости».
Впрочем нравы даже среди ученых не были очень изысканны. Более чем где бы то ни было выступали на первый план чисто личные вопросы, и взаимное доброжелательство было крайне редкой добродетелью среди коллег.
Прожив некоторое время в Мюнхене, Илья Ильич опять уехал в Неаполь, потому что вспыхнула война между Северной и Южной Германией. На этот раз он поехал морем, через Геную. Он хотел сберечь побольше денег, чтобы иметь возможность дольше поработать на море. Но ему не повезло. Переезд продолжался двое суток, была сильнейшая качка, он очень страдал от морской болезни и, приехав в Неаполь, был жестокими головокружениями вынужден к продолжительному бездействию. К тому же вновь появилась холера. От нее умерла хозяйка квартиры, где жили Илья Ильич и Ковалевский. Под этим тяжелым впечатлением они переехали на Искию, надеясь там работать. Но к своему ужасу Илья Ильич убедился, что все еще неспособен на это; чтобы скорее оправиться, он поехал в прелестное местечко Каву, славящееся своим здоровым климатом. Здесь он вновь встретил Бакунина, на некоторое время между ними завязались приятельские отношения. Бакунин даже прозвал Илью Ильича «мамашей» за его нежно-заботливый характер (название это давалось ему впоследствии и другими близкими по той же причине). Однако между приятелями не было действительного сродства душ и мыслей. Илья Ильич считал теории Бакунина поверхностными, его сектантский образ мышления и действий ему не нравился, и мало-помалу он отдалился от него.
Когда здоровье молодого человека оправилось и когда осенью холера в Неаполе прекратилась, он вернулся туда и мог, наконец, приняться за работу. Изучая историю развития головоногих (Cephalopodae), он нашел у них зародышевые пласты, подобные тем, которые были известны у позвоночных. Это был первый точно установленный пример зародышевых пластов у беспозвоночных.
Этот факт имел очень большое значение, ставя вне сомнения генетическую связь между низшими животными и высшими, т. е. наглядно доказывая непрерывность эволюции существ. Это наблюдение послужило Илье Ильичу темой для диссертации. Закончив свои исследования, он вернулся в Россию в 1867 году.
На этот раз он хорошо использовал свое почти трехлетнее пребывание за границей. Если он не выказал себя послушным учеником, то зато основательно ознакомился с организацией научных занятий в Германии, выполнил ряд независимых исследований и сделал вполне сознательный выбор направления своих будущих многолетних работ в области сравнительной эмбриологии. Сделанные им исследования уже сами по себе имели крупное значение. Таким образом наблюдения относительно различных представителей типа червей, заключающего самые разнородные формы, позволили ему установить непрерывность связи между некоторыми группами их. Изучая низших червей, он наткнулся не факт первостепенной важности, определивший все направление его будущей научной деятельности: он в 1865 году, в Гиссене, нашел внутриклеточный способ пищеварения у ресничного червя — планарии (GеоdesmusbiIineatus). Он сравнил этот способ переваривания пищи с наблюдаемым у высших инфузорий и видел в этой общности лишнее доказательство генетической связи между типом червей и простейших. Тогда он еще не подозревал всего значения этого факта, впоследствии послужившего фундаментом его будущей фагоцитной теории, вполне созревшей лишь восемнадцать лет спустя. Кроме того его многочисленные исследования насекомых и наблюдения развития скорпиона установили присутствие и у них зародышевых пластов; это позволило ему сделать вывод, что «мы имеем право распространить теорию пластов на суставчатоногих». Наконец, как было сказано выше, он открыл зародышевые пласты у головоногих (Sepiola), чем наглядно устанавливалась связь между низшими и высшими животными.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. НАЧАЛО ПРОФЕССОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выполнение вышеупомянутых исследований позволило Илье Ильичу еще из Неаполя вступить в переговоры с новым Одесским университетом о принятии его штатным доцентом. Перспектива эта очень соблазняла его ввиду моря, на фауну которого он рассчитывал. В ожидании окончательного решения он поехал в Петербург для защиты диссертации и подготовки к профессуре.
С самого приезда все, казалось, улыбалось ему. Благодаря своей живости и общительности он легко сходился с людьми. Приехав в Петербург, он сразу попал в дружескую среду; братья Ковалевские (Александр и Владимир Онуфриевичи), с которыми он был уже близок, пригласили его остановиться у них. Тогда же он познакомился с профессором Андреем Николаевичем Бекетовым и очень сошелся со всей его семьей. Вообще он всюду был хорошо принят; его раннее научное призвание возбуждало всеобщий интерес. На основании его научных работ факультет решил дать ему магистерскую степень без всякого экзамена; ему присудили, пополам с А. О. Ковалевским, первую Бэровскую премию; сам Бэр пригласил к себе молодых людей и обласкал их. Илья Ильич вступал в фазу успеха; друзья прозвали его «звездой». Получив степень магистра, он тотчас был выбран доцентом в Одесский университет.
Так как приближалось время каникул, то он мог, наконец, поехать к родным. Нечего и говорить, с какой радостью и i гордостью встретили его дома. Он провел со своими около двух месяцев, которыми воспользовался для подготовки к профессорской деятельности.
Торопясь в Одессу, чтобы успеть там ориентироваться перед началом курса, он приехал в разгар каникул, никого не застал и решил направиться в Крым, ознакомиться с фауной Черного моря. Там он познакомился с знаменитым ботаником Ценковским, который вскоре пригласил его приехать к себе на дачу. Ценковскому было тогда сорок шесть лет; Илье Ильичу — всего двадцать два года; тем не менее они быстро сошлись. Ценковский был выдающимся, культурным, европейским человеком, большим спорщиком и скептиком. Несмотря на свое страстное отношение к науке, критический ум его подвергал все строгому анализу. Он заинтересовался Ильей Ильичом и отнесся к нему с большой симпатией, что, однако, не мешало ему часто строго критиковать его. Он особенно нападал на него за несдержанность и отечески взялся «цивилизовать» чересчур пылкого, импульсивного и часто резкого юношу. Он доказывал ему невозможность всегда идти напролом, необходимость сообразоваться с мнением других, проповедывал ему терпимость, самообладание, даже неизбежность подчинения известным общепринятым условностям, против которых Илья Ильич восставал с юношеской прямолинейностью. Ценковский имел большое влияние на него. Илья Ильич старался сообразоваться с его советами, поскольку позволяла это его страстная натура. Часто даже в последующей жизни любил он приводить изречения своего старого друга.
В это пребывание в Крыму он усиленно работал, поражая всех своей энергией и выносливостью. Он совершал экскурсии, несмотря на тропическую жару, тогда, когда все изнемогали.
В конце лета он вернулся в Одессу и с большим увлечением принялся за новую свою деятельность. Лекции он читал живо и ярко, возбуждая интерес в студентах, заставляя их работать. Он читал третьему курсу; все его ученики были старше его самого. Между ними сразу установились простые, приятельские отношения. Он организовал практические занятия, и в его лаборатории вскоре работа закипела.
Таким образом все шло очень хорошо, и он, быть может, долго еще оставался бы в Одесском университете, если бы не следующее обстоятельство, связанное с его страстностью и юношеской нетерпимостью.
В конце 1867 года в Петербурге должен был открыться первый в России съезд естествоиспытателей. Илье Ильичу очень хотелось попасть на него, и он стал хлопотать о командировке в качестве делегата от университета. Из-за этого возникло столкновение между ним и его принципалом, старым профессором Маркузеном, который сам желал ехать на съезд. Зная, что у Маркузена не было действительного научного интереса к этому, Илья Ильич считал себя в праве настаивать. Он рассчитывал на поддержку Ценковского; но тот доказывал, что молодой человек должен уступить старшему. Большинство профессоров стали на сторону Маркузена, принадлежавшего к их партии. Дело принимало острый характер. Илья Ильич был вне себя, терял всякое самообладание и имел неосторожность с горечью жаловаться студентам на поведение факультета, которое считал вопиющей несправедливостью. Студенты, из симпатии к Илье Ильичу, устроили скандал Маркузену, чем еще более восстановили профессоров против юного, доцента. В конце концов решено было послать обоих зоологов делегатами на съезд.
Приехав в Петербург, Илья Ильич сейчас же побежал к Бекетовым, где был принят с распростертыми объятиями. После всех пережитых волнений он особенно сильно почувствовал радость очутиться в дружеской среде. Порывистый и впечатлительный, он уже стремился бросить Одесский университет, где испытал столько неприятностей. Желанию этому скоро суждено было осуществиться. Сообщения его имели настолько блестящий успех, что председатель съезда просил его сделать доклад в общем собрании. Предложение это очень соблазняло Илью Ильича, которому хотелось изложить свои идеи относительно сравнительной эмбриологии зародышевых пластов. Однако критический дух был у него уже настолько развит, что он чувствовал недостаточную зрелость этого сложного вопроса и отказался от заманчивого предложения. Тем не менее на съезде обратили на него внимание, и ему предоставлена была возможность перейти доцентом по зоологии в Петербург при кафедре профессора Кесслера. Так как до каникул оставалось уже немного времени, он получил сверх того заграничную командировку и весною 1868 года направился в Неаполь, где рассчитывал застать А. О. Ковалевского. Но он нашел лишь от него письмо, сообщающее о спешном отъезде для исследования в Мессину и просьбу позаботиться о его жене и новорожденной девочке, остающихся в Неаполе до тех пор, пока молодая женщина будет в состоянии предпринять путешествие. Илья Ильич охотно выполнил поручение друга, даже нянчил ребенка, так как очень любил детей и заботливо снарядил в путь мать и дочь.
Так как Ковалевский писал, что зоологический материал и условия работы в Мессине значительно лучше, то Илья Ильич вскоре туда переехал и погрузился в исследования губок и иглокожих. Друзья работали запоем. Глаза Ильи Ильича не выдержали, и он принужден был на время прервать микроскопические исследования. В этот период переутомления и насильственного отдыха впервые почувствовал он потребность сердечной, личной жизни. Он мечтал о подруге, соответствующей его идеалам.
За время пребывания в Петербурге он очень привязался к девочкам Бекетовых; старшей было всего тринадцать лет. Он говорил себе, что, быть может, руководя развитием этих детей, ему удастся воплотить свой идеал в одной из них. Но его деятельная природа не могла долго останавливаться на мечтах и продолжительном бездействии. Поэтому он предпринял маленькое путешествие через Реджио и Калабрию в Неаполь, рассчитывая, что за это время зрение его оправится. Надежда его оправдалась, но пребывание в Неаполе на этот раз оказалось неудачным. Исследуя асцидий, он пришел к выводу, противоречившему результатам А. О. Ковалевского, что очень волновало и огорчало обоих1. К этому присоединилось вечное опасение за зрение, общее переутомление, нестерпимая жара и раздражение от непрерывного неаполитанского шума; назойливые серенады не давали ему спать и довели до такого возбуждения, что в одну прекрасную ночь он вылил ведро помоев на голову неумолимых музыкантов. Все это становилось невыносимым, и он уехал на Адриатическое море, в Триест, чтобы закончить исследование превращения иглокожих и установить их генетическую связь с другими низшими животными. Наработавшись вдоволь, он вернулся в Россию и поехал в Москву, где на даче в Хаванском жили Бекетовы, а по соседству — близкая им семья Федоровичей.
В это пребывание Илья Ильич и подружился с Людмилой Васильевной Федорович, ставшей впоследствии его женой.
Привязанность его к детям Бекетовых наводила его на размышления о вопросах воспитания. Он тогда впервые остановился на мысли о дисгармонии в человеческой природе, — дисгармонии, зависящей от той значительной разницы в организме ребенка и взрослого, которой вовсе нет в такой степени у животных. Эти соображения легли в основу его позднейшего очерка «Воспитание с антропологической точки зрения», о котором будет речь впереди. Вернувшись в Петербург и желая приступить к изучению занимавшего его вопроса, он стал сравнивать строение мозга человека и собаки в различные их возрасты. Однако он не получил никаких определенных результатов.
Вскоре он убедился в том, что условия занятий на новом месте крайне неблагоприятны. Лаборатории у него не было; приходилось работать в холодном музее между шкапами коллекций. Для практических занятий со студентами совсем не было помещения. Одним словом, все его порывы к научной и преподавательской деятельности разбивались о равнодушие, неустройство, недостаток средств и т. д. Он протестовал со всей обычной страстностью, но ничего не мог добиться, раздражался, приходил в отчаяние. Частная жизнь его также была неприглядна. По принципам и из экономии он хотел обходиться без посторонней помощи, сам готовить и хозяйничать. Однако все шло у него из рук вон плохо. Прежде всего ему надоело прибирать, и скоро в комнате завелся хаотический беспорядок; потом и готовить было скучно; он стал ходить обедать в какую-то плохую немецкую кухмистерскую. И все же, несмотря на все лишения, он не мог сводить концов с концами. Пришлось читать лекции в отдаленном горном корпусе. Из экономии туда приходилось ходить пешком даже в самую страшную стужу; ученики вовсе не интересовались отвлеченной наукой, так что заработок этот был тяжелой повинностью, без всякого нравственного удовлетворения. И вот пребывание в Петербурге, от которого он ждал столько хорошего, принесло ему ряд тяжких разочарований. Его столь радостное настроение вскоре стало уступать место пессимизму и мизантропии.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ЖЕНИТЬБА
Илья Ильич отводил душу в семье Бекетовых. С детьми у него установилась нежная дружба. Он водил их гулять, в театр, читал им вслух и всячески баловал их. Все сильнее привязываясь к ним, он продолжал мечтать подготовить себе подругу жизни из одной этих девочек. Всех более интересовала его старшая, живая, умная и талантливая тринадцатилетняя девочка. Но постепенно он стал убеждаться в том, что они не могут сойтись характерами; между ними часто происходили столкновения по самым незначительным поводам. Их общий друг, Людмила Васильевна Федорович, старалась мирить их и вообще выказывала Илье Ильичу горячую симпатию. Следующее обстоятельство послужило поводом к их окончательному сближению. Вот как сам Илья Ильич описывал происшедшее матери:
«...Недавно у меня в течение двух недель было воспаление в горле, — вещь, которая теперь уж совсем прошла и о которой я тебе не писал бы вовсе, если бы она не имела связи с другим делом. Когда я сделался нездоров, то Бекетовы перевели меня к себе, так как в моей квартире, где я совершенно один, невозможно мне было справиться. Живя у них, я имел отличный случай убедиться в том, что кои возлюбленные дети меня совершенно не любят, особенно та, к которой я был более всех привязан... Так и лопнули те планы, о которых я мечтал. Мне это было весьма неприятно, так как после моих научных дел это обстоятельство меня все-таки близко касалось. Я ведь никаких знакомств почти не имею и терпеть их не могу; люблю же, чтобы был кто-нибудь, к кому можно было бы привязаться и в сообществе с кем я мог бы отдыхать. Я бы огорчился еще хуже, если бы не видел, что моим неприятностям, какого бы рода они ни были, сочувствует Людмила, о которой я тебе летом рассказывал. Я и тогда с ней был в большой дружбе, теперь же мы сблизились еще больше, и, чего доброго, лишние 800 рублей, которые я буду получать, мне, пожалуй, понадобятся. Я тебе буду обо всем писать, милая мама, потому что уверен, что ты будешь мне более всех сочувствовать, и потому что я сам тебя больше всех люблю и более доверяю. До свиданья, дорогая моя целую твои ручки. Твой Ил. Мечников».
Во время его болезни Людмила Васильевна безустанно ухаживала за ним. Не успел он оправиться, как сама она слегла. Симпатия, которую он, в свою очередь, выказывал ей, еще более сблизила их, и тогда-то написал он матери вышеприведенное письмо о возможности брака. Известие это очень встревожило ее; она боялась, что, в случае женитьбы на девушке слабого здоровья, Илье Ильичу, при скромности его средств, будет предстоять непосильно тяжелая жизнь, и она старалась отговорить его. Такое отрицательное отношение очень огорчило его; вот что он отвечал ей:
«Сегодня я получил твое письмо от 19 декабря, милая мама, которое меня очень огорчило. Ты с сомнением относишься к моему делу, советуешь быть осторожным и хотя пишешь, что веришь в мое благоразумие, но все-таки боишься, что я увлекаюсь. Если я в самом деле благоразумен, то зачем предполагать слепое увлечение; если же теперь увлекаюсь, то вряд ли меня можно сделать благоразумным. Я тебе в самом деле говорил, что очень люблю Бекетовских детей, но разве я тебе хоть раз выговорил, что они меня любят также?.. Ты совершенно несправедливо думаешь, что Людмила мне прежде не нравилась. Я в нее не был влюблен, но находился с ней в очень дружеских отношениях и хотя не считал ее идеалом женщины, но все-таки был уверен в том, что она вполне честный, добрый и хороший человек. Именно то обстоятельство, что я долго знал Людмилу прежде, чем притти к мысли на ней жениться, может тебе показать, что существуют шансы в пользу моего беспристрастного отношения к ней и отсутствия слепого увлечения. Она меня весьма любит, и это не подлежит сомнению, как ты, наверное, сама узнаешь, если познакомишься с нею. Я ее также люблю весьма сильно, и это уже составляет весьма основательный фундамент для будущего счастья, хотя, разумеется, я не могу тебе поручиться, что мы во чтобы то ни стало будем весь век жить голубками. Какое-то розовое, беспредельное блаженство вовсе не входит в мои планы относительно отдаленной будущности. А я никак не могу сообразить, почему бы было лучше, если бы я стал ждать, пока у меня разовьется мизантропия, — вещь, на которую я оказываюсь весьма способным. Ты, пожалуйста, не подумай, что если я не мечтаю о розовом счастьи, то это означает, что я не ощущаю счастья вовсе. Это совершенно несправедливо, так как я нахожусь совершенно на середине. Я очень люблю Людмилу, и мне весьма хорошо с нею, но в то же время я сохраняю способность ощущать неудовольствие от каких бы то ни было неудобств и отнюдь не считаю, что достаточно любить друг друга для того, чтобы быть счастливыми. Оттого-то я на первом плане хлопотал о профессуре и принимал это финансовое дело очень близко к сердцу…»
В следующем письме Илья Ильич писал:
«Милая мама, в прошлом письме я тебя уже предупреждал относительно Людмилы Федорович, так что теперь могу сообщить о ней некоторые сведения, которые тебе, разумеется, интересны. Она недурна собой, но не более. У нее хорошие волосы, но зато дурной цвет лица. Ей почти столько же лет, как и мне, т. е. 23 с лишним года. Родилась она в Оренбурге, потом долго жила в Кяхте, затем она года два жила за границей и, наконец, поселилась в Москве. Эта Людмила, или Люся, как ты помнишь, весьма старательно была посредником между мною и детьми Бекетовых, к который я был очень сильно привязан. Но она сама меня тогда любила, хотя и уверяла себя постоянно, что я, так сильно любящий детей Бекетовых, ни под каким видом не могу ей сочувствовать. И она была совершенно права, но до тех только пор, пока сохранялась моя любовь к детям; с тех же пор, как она прекратилась, я, само собою разумеется, стал более обращать внимание на расположение ко мне Люси и не удивляюсь поэтому, что сильно полюбил ее. В ней такие недостатки, которые, на мои глаза, покажутся большими, чем тебе, но что же с этим делать! Хорошо, что она сама их знает. Недостаток ее самый существенный состоит в слишком покойном характере в отсутствии большой живости и предприимчивости, в способности скоро сживаться с дурной обстановкой. Но зато, будучи покойным, у нее характер сильный, — она может много переносить и оставаться вполне рассудительной. Она в высшей степени добрая и милая, и в характере у нее я до сих пор не нашел ни одной грубой черты. Я ведь пишу тебе и о недостатках, следовательно ты не должна думать, что я чересчур увлекаюсь Люсей и потому нахожу в ней достоинства. Факт положительный тот, и я забыть этого не могу, что всегда, когда я себя чувствовал почему-либо скверно, то она, т. е. сношения с него меня успокаивали. Как бы мрачно я ни смотрел на будущее (а мой характер, как знаешь, не особенно побуждает меня смотреть сквозь розовые очки), все-таки я не могу не признавать того, что, живя вместе с Люсей, я, по крайней мере, на довольно долгое время сделаюсь спокойным и перестану страдать от той нелюдимости, которая на меня напала в последнее время. А это для меня крайне важно. Детей иметь не предполагается; это тебе говорит эмбриолог, т. е. специалист по истории развития. Предполагается, напротив, как можно меньше связываться, хотя нельзя будет обойти законных треб, которые совершены будут, вероятно, в январе. Хотя Люся имеет только незначительную собственность, но я буду вполне обеспечен повышением оклада. Жаль, что это дело, вследствие всегда присущих формальностей, несколько затягивается, но во всяком случае состоится. Пожалуйста, пиши мне, моя дорогая, милая мама, все, что тебе придет в голову по поводу моего дела. Порадуйся тому, что я теперь очень счастлив, и пожелай мне и впредь всего хорошего. Прошу о том же и папу, которому шлю поклон. Целую тебя, моя родная, и остаюсь сильно любящий тебя Ил. Мечников»
Чем больше узнавал Илья Ильич Людмилу Васильевну, тем больше привязывался к ней. Казалось счастье могло быть полным. Но жестокая судьба решила иначе. Здоровье молодой женщины не поправлялось, а, напротив, предполагаемый бронхит принимал хронический характер. Женитьба была тем не менее решена. Для венчания Людмилу Васильевну должны были внести в церковь на кресле, так как она не могла ходить из-за одышки. Илья Ильич всячески старался окружить жену удобствами, надеясь спасти ее уходом, рациональным лечением. И вот началась почти ежедневная борьба с болезнью и нуждой. Надо было во что бы то ни стало увеличить заработок. Илья Ильич взялся за переводы. Работая чрезмерно, он вновь переутомил зрение; пришлось впускать атропин в глаза и при таких-то условиях работать по ночам из-за возможности существовать!.. В его квартире была одна светлая комната; он организовал в ней маленькую лабораторию для практических занятий со студентами 1. Сам он больше не мог продолжать своих исследований, так как все время уходило на преподавание и на переводы. Он скрывал от родителей свое трудное положение, с одной стороны, не желая отягощать их и без того обремененного бюджета, а с другой — чтобы не подтвердить их опасений по поводу его женитьбы. Болезнь жены, невозможность работать, нужда, отсутствие активного участия и помощи, которых он заслуживал, — все это удручало его, возбуждало в нем горечь и мнительность; ему казалось, что его преследуют.
Положение становилось невыносимым. Несмотря на свою гордость, он стал хлопотать о субсидии, чтобы везти жену лечить за границу и там работать. К счастью, это удалось.
В январе 1869 года они уехали из ненавистного ему теперь Петербурга. Радость и счастье молодой четы было безмерно. Они были веселы, как дети, шутили и готовы были забыть минувшие беды. Не тут-то было! Чтобы не утомлять Людмилу Васильевну, остановились переночевать в Вильне; здесь у нее впервые сделалось кровохарканье. Илья Ильич, сам глубоко взволнованный, нежно утешал и успокаивал ее. При первой возможности продолжали путь и после нового припадка, наконец, добрались в Специю, избранную из-за мягкого климата и богатой морской фауны. Мало-помалу здоровье Людмилы Васильевны стало поправляться, так что Илья Ильич мог сноваприняться за научную работу. Он исследовал пелагических животных с точки зрения их генеалогии.
Изучая личинки иглокожих, между прочим торнарию, в которой предполагали морскую звезду, к удивлению своему он нашел, что, несмотря на огромное сходство с личинками иглокожих, торнария не была таковой; она принадлежала к оригинальной группе Balanoglossus, относящейся к червям. Факт этот, таким образом, устанавливал связь между типом иглокожих и червей, что имело большое значение с точки зрения непрерывности цепи животных типов вообще.
Эта удачная работа и улучшение здоровья жены подняли дух Ильи Ильича; к нему возвращалась его природная веселость. Людмила Васильевна хорошо рисовала и помогала ему делать рисунки к его таблицам. Постепенно она заинтересовалась работой и стала принимать в ней активное участие. Оба были счастливы, довольны, и пребывание в Специи было настоящим оазисом в их жизни. Когда стало жарко, переехали в Рейхенгаль, куда Боткин советовал везти больную на лето. 3десь Илья Ильич закончил и дополнил свои прежние исследования истории развития скорпиона. Он окончательно установил присутствие у него трех зародышевых пластов, как у позвоночных, следовательно — непрерывность связи обоих типов. Здоровье Людмилы Васильевны не позволяло ей, однако, вернуться к зиме в Россию. Поэтому решено было выписать ее сестру, Надежду Васильевну, и устроить их вдвоем в Монтрё; сам же Илья Ильич должен был ехать в Петербург к началу учебного года. Эта насильственная разлука глубоко огорчала обоих.
Для Ильи Ильича опять началась тяжелая, трудовая жизнь. Будучи доцентом Петербургского университета, он отказался от Горного корпуса и стал хлопотать о прибавке жалованья; ему дали 800 рублей, что составляло в общем жалование экстраординарного профессора. Но положение его было крайне неловким из-за того, что партия, к которой он не принадлежал (казанская, с Бутлеровым и Овсянниковым во главе), желала привлечь своего кандидата, зоолога Вагнера, на место, предназначавшееся Илье Ильичу. Ввиду этого, его верный друг Иван Михайлович Сеченов задумал предложить его в медицинскую академию на место выбывшего зоолога Бранта. В ожидании разрешения этого вопроса Илья Ильич получил командировку, съездил за женой и поехал с нею в Сан-Ремо и Виллафранку, где стал усердно работать. Людмила Васильевна значительно поправилась и могла даже принимать участие в его занятиях. Он тогда исследовал ктенофор, медуз и сифонофор; животные эти интересовали его не только с точки зрения происхождения зародышевых пластов, присутствие которых ему уже удалось доказать у многих низших групп, но также и с точки зрения вопросов общей морфологии органов. Исследуя раньше превращения иглокожих, он нашел, что план строения их, считавшийся до сих пор неизменным для каждого типа, видоизменяется по мере развития животного. Так, двусимметричная личинка, превращаясь в взрослую форму, приобретает лучистое строение. Из этого вытекало, что «план» животных не есть незыблемый признак типа, но что «планы» могут переходить друг в друга в одном и том же типе. Оставалось еще решить вопрос о происхождении обособленной полости тела животных. Присущая всем высшим формам, она отсутствует у некоторых низших, как у губок, полипов, медуз. Спрашивалось, не соответствует ли эта морфологическая разница — двойственности происхождения полостных (Coelomatae) и бесполостных (Acoelae) животных.
Ковалевский уже доказал, что полость тела многих животных (амфиоксуса, сагитты, руконогих) происходит из боковых мешкообразных отростков кишечника: отщепляясь, они образуют полость тела. Но для доказательства генетической связи между полостными и бесполостными надо было установить соответствие органов (гомологию) в обеих группах.
Илья Ильич исследовал теперь, с одной стороны, полостных (иглокожих) и с другой, — бесполостных или кишечно-полостных (ктенофор и медуз) и показал, что боковые мешки кишечной полости, из которых происходит полость тела «полостных» (иглокожих), соответствуют водяным каналам и кишечным отросткам бесполостных (ктенофор и медуз). Вся разница в том, что каналы и отростки эти у них не отделяются от общей кишечной полости для образования отдельной полости тела, отчего она и остается необособленной. Это окончательно устанавливало общность и единство происхождения обеих групп (полостных и бесполостных), так как морфология органов вполне подтверждала данные истории развития.
Удачные результаты работы и улучшение здоровья жены радовали Илью Ильича, все шло хорошо, опять стала оживать надежда на лучшее будущее. От Сеченова, однако, было получено известие о забаллотировке Ильи Ильича в медицинской академии. Там нашли удобным заменить кафедру по зоологии кафедрой по венерическим болезням. Зато Илья Ильич был приглашен ординарным профессором на место Mapкузена в Одесский университет. За него стоял Ценковский, что особенно радовало Илью Ильича, и избран он был единогласно. Он должен был вступить в должность только после каникул. Поэтому на лето он поехал в Нормандию, в Сен Ва (St. Vaast), где хотел исследовать происхождение зародышевых пластов люцернарии. Поездка эта оказалась неудачной во всех отношениях. Погода была холодная и бурная, люцернарии не оказалось; условия жизни были очень неблагоприятны. Чтобы хоть сколько-нибудь использовать свое пребывание на море, он стал вновь исследовать асцидий и нашел, что в Неаполе ошибся, когда пришел к выводам, противоречившим Ковалевскому, относительно происхождения нервной системы этих животных, о чем он тотчас написал ему.
Людмиле Васильевне опять стало хуже. Илья Ильич повез ее к родным в Москву, а затем в Панасовку. Врачи советовали лечение кумысом; для приготовления его был приглашен татарин. Но, несмотря на лечение и все заботы, здоровье Людмилы Васильевны видимо ухудшалось. Лето было жаркое, такое сухое, что постоянно приходилось развешивать мокрые простыни, чтобы доставить хоть сколько-нибудь влаги больной; она сильно лихорадила, по ночам у нее делались кровохарканья. Оставлять ее в России было невозможно.
Между тем Илья Ильич неизбежно должен был ехать осенью в Одессу на свой новый профессорский пост. Людмила Васильевна поехала с сестрой в Монтрё. Разлука становилась все тяжелее, так как надежда начинала блекнуть. Однако Людмиле Васильевне говорили о чудотворном влиянии климата Мадеры на чахоточных. Бедняжка ухватилась за эту мысль, как утопающий за соломинку... Илья Ильич решил во что бы то ни стало везти ее туда. Еще усиленнее стал он работать, чтобы добыть денег на поездку, так как, несмотря на все его лишения, средств нехватало; приходилось прибегать к переводам и статьям. У него была готовая тема, и он написал статью о «Воспитании с антропологической точки зрения» . Это был первый абрис его идей о дисгармониях человеческой природы. Он разбирал те из них, которые вызваны несоответственно большой разницей между организмом ребенка и взрослого... «Воспитательный» период у животных очень короток, и детеныши быстро могут подражать взрослым, вести их образ жизни. У человека же «воспитательный» период, длинный уже сам по себе, удлиняется еще более пропорционально с цивилизацией. Детский мозг требует долгого развития, чтобы быть в состоянии постигнуть сложность жизни взрослого. Между тем некоторые инстинкты и органы ребенка развиваются раньше, чем могут функционировать; развитие крайней чувствительности рядом с несоразмерно слабой волей — все это вызывает целый ряд страданий и печальных последствий, нарушающих равновесие жизни.
Помимо утомления от непосильной работы, в душе Ильи Ильича происходила тяжелая нравственная борьба, связанная с невозможностью согласовать свое поведение с убеждениями. В Одесском университете шли беспрерывные партийные интриги. Националистическая партия теснила поляков и забаллотировала одного профессора (Вериго) исключительно из-за его национальности. Ценковский протестовал, подав в отставку. Илья Ильич был на его стороне, рвался поступить так же как он, но это было ему недоступно, и он глубоко страдал. Другим тяжким испытанием была постоянная необходимость просить отпуска и командировок для поездок за границу. Он старался находить всякие компромиссы с совестью, но ему не удавалось успокоить ее.
Перед отъездом на Мадеру Людмила Васильевна захотела повидаться с родными. Илья Ильич повез ее в Россию. Это было ее последнее свидание со своими.
Наконец направились в дальний путь. Переезд был очень тяжелым, но, добравшись до Мадеры, больной казалось, что она ухватилась за якорь спасения. На следующее утро Илья Ильич лихорадочно заторопился ориентироваться. Красота природы была необычайна. Одни многочисленные тяжело больные напоминали о страданиях и смерти. «Могила, скрытая цветами», говорил он себе с жуткой тоской. Возрастающая грусть подсказывала ему, что нечего ждать от этой пышной природы. По характеру скалистых и открытых прибою берегов он сейчас же увидел, что на зоологический материал мало надежды. Единственное его убежище, которого он искал в работе, исчезло.
Русский консул, к которому он обратился за справками, советовал нанять квартиру, так как это было дешевле, чем жить в пансионе. Найдена была хорошенькая дача с садом за 500 рублей. Это было не по средствам, но, к счастью, их попутчик, молодой остзейский немец Мертенс, предложил нанять ее сообща. Он занял мезонин и, будучи очень деликатным, вовсе не стеснял сожителей, а, напротив, вскоре стал другом дома.
Перед поездкой на Мадеру Илья Ильич получил командировку и субсидию от Московского Общества Испытателей Природы. Это ставило его в нравственную необходимость добиться каких-нибудь научных результатов. Тем более приходил он в отчаяние от бедности зоологического материала. Не находя ничего более подходящего, он стал исследовать историю развития многоножек, недостаточно известную раньше. Но работа эта доставила ему лишь новый источник страдания: техника оказалась очень трудной, он не мог справиться с нею, раздражался, был недоволен собой; нервы не выдерживали — он был уж слишком измучен. Внешняя сторона жизни была в полном контрасте с душевным состоянием. Чудная, ни с чем несравнимая красота природы, благоухание цветов, симпатичная среда, удобство жизни — такова была рама, в которой разыгрывалась трагедия одной гибнущей молодой жизни и другой — напрасно выбивающейся из сил, чтобы спасти ее!
Обстоятельства могли только способствовать развитию пессимизма Ильи Ильича. Мрачно было его мировоззрение. Он говорил себе, что дисгармонии человеческой природы должны неизбежно привести человечество к гибели. Из этих размышлений возникла статья «О возрасте вступления в брак» . Мысль ее заключалось в том, что в то время, как брак по мере цивилизации и культурности все отодвигается, половое развитие наступает так же рано, как и прежде, вследствие чего период несоответствия между наступлением половой зрелости и браком все увеличивается, внося в жизнь целый ряд ненормальных условий. Статистика самоубийств доказывает несомненную связь последних с продолжительностью этого периода.
В то время, как Илья Ильич несколько отвлекался этими занятиями от личного горя, Людмила Васильевна, со своей стороны, старалась заполнить время обучением бедных детей, рисованием цветов, чтением романов. Жизнь текла тихо и мирно, несмотря на подтачивающую ее драму. Однако мысль о том, что он занимает кафедру и не читает лекций, постоянно мучила Илью Ильича. Он уже подумывал. выйти в отставку и завести книжный магазин на Мадере, что давало бы ему возможность независимого существования и позволило бы не разлучаться с женой. Но на это нужны были деньги, которых не было... В поисках заработка он поехал на остров Тенериф, имея в виду описать свое путешествие. Не без препятствий и затруднений удалось ему выполнить этот план. Однако он осмотрел сад с знаменитым драконовым деревом, возраст которого определяют в 6000 лет на основании его гигантских размеров и числа разветвлений. Дерево это, уже тогда разбитое грозой, лежало опрокинутым в виде какого-то допотопного чудовища. Из других достопримечательностей Тенерифа он осмотрел пещеру вымершего народа — гуанчей. Собрав нужные сведения об острове и его истории, он поторопился вернуться на Мадеру.
Опять стали проходить длинные месяцы без всякой перемены. Мысль о книжном магазине была покинута, как невыполнимая. Илья Ильич решил возвратиться в Одессу и выписать вместо себя Надежду Васильевну. По ее приезде он поручил обеих молодых женщин попечению Мертенса и доктору Гольдшмидту и уехал с сознанием бесполезности всех усилий и с прочно установленным пессимистическим мировоззрением.
Возвратившись в Одессу в сентябре 1872 года, он застал там Сеченова, которого предложил на кафедру физиологии в Одесском университете перед своей поездкой на Мадеру. Сеченов теперь был ему большой нравственной поддержкой в эту тяжелую эпоху жизни. Он нашел также близких друзей в молодой, симпатичной чете Умовых, у которых отводил душу. Переписка этого периода с женой была полна той нежности, которую торопятся дать друг другу, чувствуя приближение близкой, вечной разлуки.
В конце января, между двумя лекциями, Илья Ильич получил письмо от Надежды Васильевны: она вызывала его ввиду ухудшения состояния здоровья жены. Машинально прочитав
вторую лекцию, он побежал взять отпуск. Весь путь проехал он безостановочно. Увидя жену, Илья Ильич не сразу узнал ее, так она изменилась. Он нашел, однако, силу скрыть свой ужас перед нею. Она более не покидала постели; ей постоянно давали морфий, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить страдания. Здоровье Ильи Ильича также было в печальном состоянии. Зрение его так переутомилось, что он должен был сидеть в темной комнате; только под вечер выходил он в сад наблюдать улиток и пауков. Время проходило в томительной неизвестности, в заботе о добывании дальнейших средств к существованию. Илья Ильич рассчитывал на Бэровскую премию за представленную им зоологическую работу, но не получил ее под предлогом, что статья его была написана, а не напечатана. В действительности же немецкая партия хотела дать ее соотечественнику. Об этом сообщил ему бывший товарищ по Гиссену, барон Стуарт. Зная печальное положение Ильи Ильича, он дружески предлагал ему занять денег. Илья Ильич решился взять у него взаймы 300 рублей. Тогда он думал только как бы дотянуть и на все махнул рукой.
Однажды утром больной стало сразу хуже. Спешно послали за доктором. Он объявил, что ей осталось всего несколько часов жизни... После его ухода Илья Ильич вошел в комнату жены и застал ее с широко открытыми глазами, полными такого глубокого ужаса и отчаяния, что он не выдержал и выбежал, боясь выказать свое волнение. Это было последним впечатлением; больше он ее не видел... Он шагал по зале в каком-то полусознательном состоянии, открывал и закрывал книги, ничего не видя, представлял себе разные отрывочные картины и не отдавал себе отчета о времени. Надежда Васильевна пришла сказать, что все кончено... Это было 20 апреля 1873 года. Илья Ильич ощущал смешанные чувства отчаяния, подавленности и облегчения, что наконец, кончена эта агония. В течение всей ужасной ночи он оставался с Надеждой Васильевной в отдаленной комнате: они говорили, как говорят только в такие минуты. На другой день доктор Гольдшмидт, преданный друг, застал его сравнительно покойным. Илья Ильич просил его сделать вскрытие и заняться Надеждой Васильевной. Пришел также шотландский пастор; он уговаривал вдовца обратиться к богу и искать в нем утешения. Илья Ильич благодарил его, но с твердостью отвечал, что для него это немыслимо. Похороны состоялись 22-го. Он не присутствовал на них и не видел умершей.
Тотчас после похорон Илья Ильич покинул Мадеру вместе с Надеждой Васильевной и одним молодым русским, которого увозил с собой, потому что тот стремился повидать мать, но не имел средств на поездку к ней; Илье Ильичу больше незачем было экономить. После катастрофы он не мог думать о будущем; его жизнь точно оборвалась. Без определенной цели истребил он все свои бумаги и захватил баночку морфия.
Обратно поехали через Лиссабон и Испанию. Карлистское восстание было в разгаре, и разные дорожные приключения служили временным отвлечением. Поехали в Женеву, где жил Лев Ильич и дядя Евграф Иванович с семьей, с которой Илья Ильич был близок. Среди родных он будто бы оправился, даже с увлечением рассказывал о встрече с карлистами и о дорожных приключениях. Но это кажущееся спокойствие скрывало тяжелую душевную драму. Он спрашивал себя: «К чему жить? Личная жизнь кончена; глаза так плохи, что скоро ослепну, работать больше не смогу. К чему же жить?» Не видя исхода, он проглотил свой запас морфия. Он не знал, что очень большие дозы, вызывая рвоту, удаляют яд. Так и случилось с ним. Он впал в блаженное состояние, сопровождаемое ощущением бестелесности и полного покоя. Однако он не терял сознания и ничуть не боялся смерти. Его, конечно, больше не спускали с глаз. Придя в себя, он совсем растерялся. «Быть может всего лучше сильно заболеть, – думал он, – тогда или умрешь, или вернется жизненный инстинкт».
Он взял очень горячую ванну, после которой облился ледяной водой и вышел на холод, надеясь сильно простудиться.
Проходя по мосту, через Рону, он вдруг увидел насекомых, летающих вокруг пламени фонаря. Это были фингоны, но издали он принял их за поденок (эфемер) и подумал: «Как применить теорию естественного подбора к этим насекомым, когда они живут всего несколько часов, вовсе не питаясь, следовательно не подвержены борьбе за существование и не имеют времени приспособиться к внешним условиям?»
Мысль его направилась к научным вопросам. Он был спасен. Связь с жизнью восстановилась!
Часть вторая. Зрелые годы в России
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ В КАЛМЫЦКИЕ СТЕПИ С АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ
После перенесенного горя Илья Ильич больше чем когда-нибудь жаждал погрузиться в работу, видя в ней свое спасение. Поэтому его особенно заботило состояние глаз. Чтобы отдохнуть от микроскопических занятий, он решил хлопотать в Петербургском географическом обществе о командировке с антропологической целью. Знакомясь с антропологией, он приходил к выводу, что в науке этой еще не существует руководящей нити, что все в ней сводится к точным и подробным измерениям, без освещения общей идеи. Он спрашивал себя, не следовало ли бы применить к антропологии сравнительный метод, давший столь плодотворные результаты в эмбриологии? Нельзя ли провести аналогию между различными расами и возрастами отдельного человека? Для решения этого вопроса он хотел сначала ехать к самоедам, как к наиболее примитивному из инородцев России. Но план этот оказался неосуществимым; он решил ехать на собственные средства в астраханские степи для исследования калмыков, также первобытного народа монгольской расы. Перед отъездом он хотел повидаться со своими и с семьей жены.
Вот как описывала это свидание Надежда Васильевна Федорович:
«...Его воспаление глаз все еще продолжалось. Человек, которого я не могу себе иначе представить, как над микроскопом или с книгой, был лишен в такое тяжелое время всяких занятий. Нас изумляла его способность читать свои ученые книги в обществе, за чаем, за обедом. Он никого этим не стеснял, потому что в то же время слышал все, что вокруг него говорят и принимал участие в общем разговоре, как и все. На следующее утро я пришла в его комнату, звать его пить чай. Он сидел в темной комнате,в руках у него были ножницы, и вокруг его стула пол был усыпан мелко нарезанной бумагой. Вот какое занятие он нашел себе! Тут он сказал мне, что если я хочу, то он переведется в Москву, будет жить и работать для нашей семьи. Я отказалась и сказала почему. Он был огорчен, но я была права. Кроме великодушия в этом предложении было желание найти какую-нибудь ближайшую цель жизни. Скоро после того он уехал в калмыцкие степи с целью антропологических изысканий. Его печальный облик часто рисовался мне среди этих степей»
Предпринятое путешествие оказалось трудным и утешительным. Не зная языка, Илье Ильичу приходилось прибегать к переводчикам. Грубость служащих по отношению к калмыкам производила на него тяжелое впечатление; его уверяли, что иначе ничего нельзя добиться. При всякой перепряжке калмыки объявляли, что лошадей угнали в степь. Казак, сопровождавший Илью Ильича, начинал жестоко ругаться и грозить нагайкой. Тотчас, как по мановению волшебного жезла, появлялись лошади. Мало-помалу Илья Ильич стал привыкать к этим сценам, смотреть на них, как на местный
обычай.
Труднее ему было свыкнуться с неописуемой грязью, с пищей, пропитанной запахом и вкусом бараньего сала, и с постоянным ночным лаем собак. Все это делало значительно менее привлекательными первобытную жизнь и нравы. Но, несмотря на неблагоприятные условия, он работал запоем.
Измерения тела калмыков привели его к выводу, что монгольская раса представляет остановку развития, соответствуя по своему строению детскому возрасту кавказской расы. Так, он нашел, что все относительные пропорции скелета калмыков (крупная голова, длинное туловище, короткие ноги) соответствуют пропорциям ребенка кавказской расы. Вывод этот подтверждался и строением века, — калмыцкой складкой (эпикантус) у взрослых калмыков; строение это вполне сходно со складкой века, свойственной детям кавказской расы.
Эти интересные результаты несколько подняли дух Ильи Ильича, тем более, что и глаза его успели немного оправиться. Однако по возвращении в Одессу он не мог еще микроскопировать и решил на каникулы следующего года вновь ехать в калмыцкие степи, чтобы продолжать предпринятые исследования.
На этот раз он начал путешествие с красивых ставропольских степей, покрытых роскошным ковылем и цветами; их аромат, беспредельная ширь, чистый воздух имеют особенную, чарующую прелесть. Но население И здесь, как и в астраханских степях, забито и апатично. Зависит это отчасти от того, что калмыки пьют молоко, подверженное спиртному брожению, которое их слегка, но хронически опьяняет.
Однако между ними встречались люди развитые, стоящие гораздо выше окружающего их уровня. Так, собирая этнографические справки, Илья Ильич познакомился с калмыцким священником — бакшой, который рассказывал ему столько интересного и поучительного о буддийской религии и организации духовенства, что возбудил в нем желание ехать с ним в Тибет, куда посторонний не может проникнуть без помощи посвященного. План этот, однако, не был осуществлен.
Собрав богатый антропологический материал, Илья Ильич вновь направился в астраханские степи через Маныч. Поправляя и пополняя свои прошлогодние наблюдения, он совершенно случайно набрел на оазис, где русские делали опыты искусственного разведения леса, и нашел здесь многоножек с большим количеством яиц (geophilus). История развития этих животных была тогда еще мало известна, что составляло чувствительный пробел в эмбриологии. Радуясь возможности пополнить его, Илья Ильич без колебаний предпринял длинное утомительное путешествие в Астрахань, чтобы добыть там микроскоп и пересмотреть драгоценный материал. Дорогой многие яйца, однако, погибли, так что ему пришлось с заемным микроскопом вновь ехать в другую лесную плантацию «Яндыки» , чтобы на месте исследовать непрочный материал.
Несмотря на очень тяжелые условия жизни в крестьянской избе и на утомление глаз, ему все же удалось пополнить пробел по истории развития найденных многоножек. В антропологическом отношении он также собрал крайне интересные данные Его гипотеза о пользе применения сравнительного метода, употребляемого в эмбриологии, вполне оправдалась; на основании этого метода ему удалось окончательно установить соответствие монгольской расы с детским и юношеским возрастами кавказской.
Он представил отчет своих исследований Московскому Антропологическому Обществу; но отвлеченный другими научными задачами, уже более не возвращался к этому вопросу.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ВТОРОЙ БРАК. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Ты мне, Гектор, отец и мать высокочтимая, и брат, и муж. Илиада.
Занятия антропологией навели Илью Ильича на изучение детского возраста и в то же время на размышления о педагогических вопросах. Глаза его еще не оправились, потребность же деятельности была велика; чтобы сколько-нибудь удовлетворить ее, он стал давать уроки в женской гимназии и читать лекции на публичных курсах при университете.
Время проходило, но чувство одиночества не покидало Илью Ильича. Он расточал деятельную симпатию вокруг себя, жил совершенным аскетом, отдавая все, чем располагал, но ничто не утоляло его потребности к более интимной привязанности
и к семейной жизни.
В одном доме с ним, этажем выше, жила наша семья. Нас было восемь душ детей, от годового до шестнадцатилетнего возраста, — соседство шумное и, вследствие этого, неприятное. Ежедневно Илью Ильича будили рубкой котлет для детей. В одно прекрасное утро, не выдержав более, он поднялся к нам, прося устранить этот шум, и отец обещал распорядиться, чтобы не шумели ранним утром. Мы все были собраны за чайным столом перед уходом в гимназию. Увидя «чужого» мы с сестрой поскорее собрали свои книги и заторопились уходить, не успев даже разглядеть Илью Ильича; нас только поразила его необыкновенная бледность. Через некоторое время после этого эпизода мы встретились у общих знакомых. Оказалось, что он по виду уже знал нас, так как часто утром в окно видел, как мы шли в гимназию; его смешило наше храброе перескакивание через постоянную лужу на улице.
Один из его учеников (Шманкевич) был преподавателем в нашей гимназии; Илья Ильич, расспросив его о нас, узнал, что я интересуюсь естественной историей и предложил давать мне уроки зоологии. Я была в восторге. Он просил разрешения моих родителей, получил его, и мы с большим рвением принялись за дело. Очень скоро, почувствовав влечение ко мне, Илья Ильич вернулся к своему прежнему плану, воспитать девочку на основании своих идей и подготовить из нее будущую свою жену. Быть может он и выполнил бы намерение сначала воспитать меня, а потом жениться, если бы вскоре не обнаружилась рознь взглядов между моим отцом и им. Это была рознь двух поколений — «отцов и детей» .
Мой отец был отличный, в высшей степени благородный человек, но принадлежал к типу «старого барина» , к эпохе других воззрений и нравов; столкновения были неизбежны. Ввиду этого Илья Ильич решил поскорее просить моей руки.
Мать, гораздо моложе отца, всецело симпатизировала молодому поколению. Идеалистка, полная поэзии и кроткой доброты, она была талантлива, в юности играла на виолончели и писала масляными красками, но раннее замужество и материнство заставили ее отказаться от искусства; тем не менее всю жизнь тоска по нем не покидала ее. Своим прелестным кротким и грустным обликом она напоминала мать в «Детстве и отрочестве» Толстого. Между нею и Ильей Ильичом сразу возникла глубокая симпатия; она стала его горячей сторонницей и впоследствии нежно преданным другом. Он изложил ей свои теории брака и признался в любви ко мне. Моя юность, однако, смущала мать, но Илья Ильич старался успокоить ее, говоря, что понимает риск своего плана, что готов нести все его последствия, что сделает меня счастливой, а если это ему не удастся, найдет нравственную силу и сумеет создать мне новую, более подходящую жизнь.
Вовсе не подозревая чувств моего учителя, я была глубоко смущена, узнав о них; я совершенно не могла понять, как он, такой умный и ученый, может жениться на ничтожной девочке. Меня пугала мысль, что он ошибается во мне, и мне казалось, точно я иду на экзамен, к которому вовсе не подготовлена.
Я увлекалась Ильей Ильичом и очень любила его; он производил сильное впечатление всей своей личностью не на одну меня. Вот как описывает его И. М. Сеченов в своей автобиографии:
«...Душой кружка был И. И. Мечников. Из всех молодых людей, которых я знавал, более увлекательного, чем молодой Илья Ильич, по подвижности ума, неистощимому остроумию и разностороннему образованию я не встречал в жизни. Насколько он был серьезен и продуктивен в науке, — уже тогда он произвел в зоологии очень много и имел в ней большое имя, — настолько же жив, занимателен и разнообразен в дружеском обществе...»
На мое юное воображение влияло также его грустное прошлое, его интересная внешность, несколько напоминавшая в то время Христа: бледное и худое лицо его было освещено добрым, лучистым взглядом, вдохновенным, когда он увлекался. Сердце влекло меня к нему, но я не была еще зрела для брака, и равновесие мое нарушилось неожиданностью событий. Боясь быть не на высоте Ильи Ильича, я старалась придумывать «умные» разговоры, чтобы ему не было скучно со мной; но все, что я выискивала, казалось мне таким неловким и ничтожным, что я отбрасывала один проект за другим, пока не приходил Илья Ильич и не заставал меня врасплох. Он не понимал всей глубины моего смущения, и поведение ревностной ученицы не удовлетворяло его.
Свадьба наша состоялась 14-го февраля; зима была суровая; снег покрывал землю густой, искрящейся пеленой. За несколько часов перед свадьбой мои братья запряглись в салазки, чтобы покатать меня. «Иди скорей, — говорили они, —сегодня вечером ты будешь уже дамой, тебе нельзя будет больше играть» . Я была того же мнения, и мы с увлечением помчались по снежному ковру на большом дворе нашего дома. Наконец мама, вся взволнованная, стала звать через форточку: «Дитя мое, да о чем же ты думаешь! Давно пора причесываться, одеваться!» , «Еще немного, мамочка, ведь в последний раз!».
Много ребяческих волнений пережила я в этот серьезный день... Венчальное одеяние было моим первым длинным платьем, и я боялась наступить на подол; с ужасом думала я о том, как войду в церковь под общими взглядами присутствующих. Мой маленький брат старался ободрить меня, обещая все время держать за руку, а мама для храбрости поила меня шоколадом. У дверей церкви нас ждал уже Илья Ильич; мое смущение еще усилилось, когда послышались шопоты: «Боже, да она совсем дитя!» .
После свадьбы, вечером, Илья Ильич бережно закутал меня в теплую мантию и на быстрых санях увез к нашему новому домашнему очагу. Несмотря на все волнения этого памятного дня, на следующее утро я встала на заре, чтобы как можно лучше приготовить урок по зоологии и сделать приятный сюрприз своему мужу.
Наконец он мог свободно приняться за мое воспитание. Трудная задача, когда дело идет о существе, столь мало подготовленном к жизни! Научные методы, во всем прилагаемые им, могли оказаться опасными в эту деликатную психологическую минуту. Однако во многих отношениях он проявил редкую воспитательную проницательность. Так, общим его принципом было предоставлять мне полную свободу, в то же время направляя и влияя логикой своей аргументации.
С благодарностью думаю я о том, как он, стоявший во столько раз выше меня, не только не подавлял моей личности, тогда еще гибкой и не установившейся, но, напротив, всегда бережно относился к ней.
Как вся молодежь того времени, я увлекалась политикой и социальными вопросами, не будучи достаточно зрелой для них. Дома отец, боясь последствий этого увлечения и не сочувствуя ему, запрещал нам посещать политические кружки. Илья Ильич, напротив, сразу дал мне полную свободу, хотя сам относился критически к увлечению молодежи. Он считал, что социальные вопросы и политика относятся к чисто практической области, для которой у юношей нет ни достаточной подготовки, ни необходимого опыта. Но он понимал, что все, похожее на насилие, имело бы лишь обратное влияние. Поэтому, нисколько не мешая мне знакомиться с политическим движением, он, однако, обсуждал его со мною и подвергал всестороннему анализу и критике. Этот образ действий оказался крайне рациональным; только благодаря ему не сделалась я одной из многочисленных политических жертв того времени.
Горячее участие принимал Илья Ильич решительно во всех сторонах моей жизни. До замужества я не успела сдать гимназических экзаменов и теперь должна была держать их по всему курсу перед экзаменационным комитетом. Илья Ильич помогал мне готовиться даже по катехизису, внося во все веселость и оживление. Интересным общеобразовательным чтением он скрашивал самые сухие материи. Сдав экзамены, я стала изучать биологию под его руководством. Он умел не только придавать всему необыкновенно интересное общее освещение, давать в руку путеводную нить, но старался одновременно развивать самодеятельность. Так, помощью практических занятий, он знакомил с представителями различных групп, я же должна была самостоятельно выводить их общую характеристику и определять их взаимную связь. Не в одном моем образовании принимал он живое участие, — он во всем приобщал меня к своей жизни, делился мыслями, вводил в свои занятия. Мы всегда много читали вместе; у него была отличная дикция, и он охотно читал вслух. Его радостью было баловать меня. Мы часто посещали концерты и театры. Драма и хорошая музыка трогали его до слез. В голове его постоянно носились музыкальные мотивы, которые он насвистывал, даже работая. Он не любил никакой роскоши, но неизменно содействовал эстетике нашего скромного жилья, потому что я была чувствительна к этому.
Во время наших путешествий, имевших всегда целью его научные занятия, он всячески старался попутно знакомить меня со всем интересным. У него был особенный дар делать путешествие поучительным и в то же время в высшей степени привлекательным. Его живость, сообщительная веселость; любознательность, способность все отлично организовать делали его несравненным товарищем и руководителем. В течение долгих лет работали мы вместе. Работать с ним было величайшим благом, потому что, щедро делясь своими мыслями, сообщая свое увлечение и интерес к исследованию, он в то же время создавал атмосферу тесного общения и искания знания и правды, и самому скромному работнику это позволяло чувствовать, что он участвует в выполнении высокой цели. Хотя я всегда интересовалась научными вопросами, но страстью моей жизни было искусство. Однако вследствие узкоутилитарных понятий, господствовавших во время моей юности, я не позволяла себе предаваться ему, считая его «роскошью жизни» , пока народ еле умеет читать. Когда же, наконец, я отделалась от этой неверной теории и дала волю своему природному влечению, Илья Ильич первый деятельно способствовал моему художественному образованию.
Он был гораздо менее чувствителен к пластическому искусству, чем к музыке. Краска и форма сами по себе мало трогали его; он гораздо более интересовался сюжетом, чем художественным выполнением его. Он любил серьезный психологический жанр, портрет и пейзаж; ни классика, ни эпоха Возрождения, ни импрессионисты его не трогали. Несмотря на рознь в наших взглядах на пластическое искусство, он неизменно живо интересовался моей работой и всегда деятельно поощрял меня в ней. Сколько раз ходил он в картинные галереи, искренно стараясь проникнуться красотой великих произведений!
Помимо музыки, он всего более наслаждался природой, быть может, также оттого, что она служила ему неисчерпаемым источником наблюдения. Он предпочитал ясные, кроткие впечатления, вследствие потребности нервного успокоения. Особенно любил он тихие пруды, поросшие камышами и водяными растениями, где он тотчас принимался искать мелкое живье, таившееся под листьями и в тине.
Преподавание и общественная деятельность поглощали почти все его время. Часы отдыха посвящал он семейной жизни и интимному, дружескому кругу, с которым, помимо чисто личных, сердечных отношений, был связан общими научными интересами и солидарной университетской деятельностью. Он остался верен своим друзьям и после того, как жизнь разбросала их далеко друг от друга. Мы всегда были окружены людьми, потому что его отзывчивая доброта делала его центром притяжения.
После смерти его отца, в 1878 году, мать его с двумя внуками переехала жить к нам. Ей тогда было около 64 лет;и она уже имела вид старушки, одевалась очень просто, не по моде, гладко причесывала свои почти совсем седые волосы, и одни ее большие живые черные глаза оставались молодыми и свидетельствовали о прежней красоте. Очаровательным было ее доброжелательное отношение ко всем; характер ее оставался веселым, отзывчивым и живым, но потребность к деятельности не могла быть удовлетворена вследствие состояния здоровья, которое часто беспокоило ее. Илья Ильич окружал ее нежной заботливостью, простиравшейся до самых мелочей жизни. Так, например, он, не выносивший карт, раскладывал с нею пасьянсы, возил кататься и осматривать рынок, который интересовал ее, как образцовую хозяйку. По возвращении домой из университета он обыкновенно тотчас присаживался около матери, заботливо расспрашивал ее о здоровьи, говорил с ней в нежно шутливом тоне, рассказывал про университетские дела и т. д. Она всем живо интересовалась, особенно же тем, что касалось ее дорогого Ильи, «утешения ее жизни» , как она его называла. Несмотря на всю свою привязанность к ней, он удивительно стойко перенес ее смерть, зная, что вследствие болезни сердца, которой она страдала, ей предстояли бы одни все более и более тяжкие страдания.
Моя семья сделалась также его семьей. Отношения с моим отцом стали таковыми, что, уже больной и чувствуя приближение смерти, он поручил Илье Ильичу быть нашим опекуном. Нежная дружба между ним и моей матерью длилась до самой ее смерти, после которой он долго нес все семейные заботы и обязанности. С детьми — моими братьями и маленькой сестрой — он был шутливо добродушен и хотя баловал их, но постоянно старался быть им полезным, поскольку мог и умел.
Желанье добра всегда руководило им, но бывали случаи, когда он ошибался в оценке последнего для других и ему не удавалось достичь цели. Душа человеческая так загадочна, жизнь так сложна, так запутаны бывают ее комбинации, что иногда приходится судить не по результатам поступков, а по их побуждениям. Что касается лично меня, то его любовь, заботливость, доброта были всегда безграничны. Если первые годы между нами возникали иногда столкновения, то они были большею частью связаны лишь с моей юношеской прямолинейностью и его нервностью.
Были в нашей жизни и тяжелые испытания, но глубокая взаимная привязанность и дружба никогда не нарушались, — они всегда выходили из этих испытаний еще закаленнее и прочнее. Одно время Илья Ильич думал, что мое счастье призывает меня уйти от него, и всячески старался доказать, что я имею на это право. Благородство его поведения было лучшим нашим оплотом. Чем дальше шли годы, тем ближе, тем лучше становились наши отношения. Мы прожили в глубоком общении, достигли той полной духовной связи, того взаимного понимания, при которых нет больше места для теней, — все свет.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРИОД ПРОФЕССУРЫ В ОДЕССКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В тридцать лет личность Ильи Ильича была уже ярко определена, хотя он еще не достиг тогда полного расцвета своего развития. Характерной чертой его была сила призвания к науке; страстное поклонение ей и разуму делали его их вдохновенным жрецом. У него были достоинства и недостатки мощной, богато одаренной натуры. Отзывчивый всеми фибрами души, он щедро расточал жизнь и свет вокруг себя; страстный, — он впадал в крайности, не выносил посягательства на дорогие ему идеи, и малейшее нападение на них вызывало его к бою. Темперамент: борца заставлял его часто идти напролом; препятствия только возбуждали его энергию; он преследовал свою цель с непоколебимой настойчивостью, никогда не покидал задачи, как бы трудна она ни была; ни лишения, ни жертвы не останавливали его, если он считал их нужными. В странном противоречии с этой железной волей находилась озадачивающая подчас импульсивность, как, например, та, вследствие которой не удалось его первое путешествие за границу, или которая выражалась резкими вспышками по поводу ничтожных обстоятельств, как назойливый шум, мяуканье кошки, лай собаки, трудность загадки и т. д. С возрастом эта раздражительность значительно уменьшилась, а под конец почти совсем прошла. Вспыльчив он был и в личных сношениях, но тотчас после первого взрыва наступал полный разряд; его желание загладить вспышку бывало трогательно, когда он чувствовал себя виновным. В противном случае он не легко забывал обиду и зло; однако чувство мести никогда не оскверняло его душу; с другой стороны, он всегда помнил добро с неизменной благодарностью.
Несмотря на свои пессимистические теории, доходившие в то время до того, что он считал преступным для сознательного человека производить на свет другие жизни,, несмотря на его усиленную физическую и нравственную чувствительность, он тем не менее обладал непоколебимой бодростью; его врожденная веселость, унаследованная от матери, всегда брала верх. Он любил шутить; иногда его остроты задевали за живое, но только в силу их меткости, а вовсе не намеренно. Подчас он смущал чисто профессиональной привычкой называть вещи их именами, в аргументации прибегать к конкретным, личным примерам; но он применял тот же прием к самому себе; это был «объективный метод» — не более; знавшие его, в этом не сомневались.
Его деятельная доброта не имела ничего слащавого, несмотря на почти женскую чувствительность; он был несравненным товарищем и другом, имел дар ободрять, внушать доверие и уверенность. Принимая участие в других, он легко становился на их уровень, находил с ними точки соприкосновения, наблюдения «документов жизни» , говорил он.
С одинаковым интересом и простотой беседовал он с низшей братией и сильными мира сего, со старым и малым. Но не один умственный интерес руководил им: он подходил к людям всем сердцем; именно это и делало его самого необыкновенно доступным.
Всегда открыто, подчас резко, высказывал он свое мнение. Правда стояла у него на первом плане. Он был вполне искренен с собою и другими; разве чувство жалости могло отклонить» его от этого. Смело высказывал он свои убеждения, даже когда они шли вразрез с общепринятыми, даже когда должны были вредить ему. Он ревниво оберегал свою независимость, и ничто не могло его заставить поступить против своих убеждений. Остроумный, интересный, он оживлял все вокруг себя; кипучи были его мысли и деятельность; никакие вопросы не оставляли его равнодушным; он все читал, познанья его были огромны, и он всегда охотно делился ими. Все эти свойства делали его притягательным центром как в частной жизни, так и в лаборатории и во всех сферах его деятельности.
От 1873 до 1882 года, помимо научных занятий, деятельность Ильи Ильича была главным образом сосредоточена на преподавании, и на внутренней жизни университета. Он вкладывал в них свою обычную пылкость. Лекции его отличались живостью и простотой изложения. Они всегда заключали обобщающие идеи, придающие интерес самым сухим фактам, которыми он пользовался, лишь как архитектор пользуется грубым материалом для возведения стройного здания. Благодаря этой творческой способности лекции его были художественны, несмотря на крайнюю простоту их. Он никогда не отделывал формы и не придавал ей значения; но красота ее сама собою созидалась богатством содержания, логическим развитием простых, всем доступных понятий, постепенно разрастающихся в симфонию стройных обобщений и выводов. Его собственное увлечение передавалось другим, вызывая живую связь с аудиторией.
Привожу выписку из письма,, полученного мною в 1921 году от профессора Георгия Емельяновича Афанасьева, посещавшего публичные лекции Ильи Ильича в период профессуры его в Одесском университете. Вот что пишет Георгий Емельянович: «...Мечников не только ученый, но и выдающийся профессор. Я слушал его лекции по эмбриологии, лекцию о целесообразности в природе, лекцию о фагоцитах и о туберкулезе. ...Лекция о фагоцитах, к слову сказать, вызвала во мне тогда трепет душевный своей широтой и образностью... Мечников был виртуоз, который говорил с такой кристаллической ясностью, что слушателю начинало казаться, что все это и он мог бы вперед сказать и что в этом и сомневаться невозможно. Когда он характеризовал процесс борьбы фагоцитов с болезнетворными бациллами, то эта борьба становилась такой яркой, что получалось чувство, как будто близко к вам существа борятся с ихними и вместе вашими врагами. Когда же в заключении Илья Ильич захватывал эту борьбу на пространстве тысячелетий, чуть не с начала мирозданья, и когда он выяснял, как человек с его наукою выступает в этой борьбе на стороне фагоцитов и что из этого может выйти, то получалась такая колоссальная картина, что у меня дух захватывало и мурашки шли по спине от этого необъятного размаха мысли...»
Яркость воспоминанья после стольких лет достаточно свидетельствует о силе впечатленья.
Между Ильею Ильичом и студентами были отличные отношения, несмотря на то, что он нисколько не искал популярности. Не только не поощрял он тенденцию молодежи к политике, но, наоборот, употреблял все свое влияние, чтобы направить ее в сторону научных занятий. Он доказывал, что политические задачи требуют образования и серьезной практической подготовки. Без этого, говорил он, в социальной жизни получится то же, что было в медицине до вступления ее на почву точной науки, когда, чтобы лечить, достаточно было быть пожилой женщиной или знахарем. Тем не менее студенты всегда находили в Илье Ильиче горячего заступника в гонениях на них и серьезную опору в работе, если обнаруживали малейший интерес к ней. Он неизменно старался открыть и раздуть всякую искру священного огня. Влияние его на молодежь было велико благодаря независимости его убеждений и -поведения. В административных сферах его за это считали «красным» и чуть не агитатором. В действительности же он боролся только с косностью и гасительством, задерживающими развитие культуры и знания в России. Сам он называл себя «прогрессивным эволюционистом», считая, что одно сознательное, внутреннее развитие может дать прочные результаты и вести к действительному прогрессу, Он полагал, что революция, особенно терроризм, большею частью надолго вызывают реакцию; что без развития сознательности в народной массе революция грозит лишь перевести деспотизм из одних рук в другие.
Социализм не удовлетворял его, потому что не предоставлял, по его мнению, должного простора личной инициативе и развитию индивидуальности, на которые он смотрел как на высшие факторы прогресса. Видя свою миссию в научной деятельности, не считая себя компетентным в политике, он избегал ее. Но так как научная деятельность находилась в тесной зависимости от положения университета, притесняемого реакционной политикой, то он принимал живейшее участие в делах его, с боя отстаивал его права и автономию. Однако и при этом он стремился оставаться вне партий и руководствоваться одними интересами науки. Вследствие этого ему случалось подавать голос как за крайнего левого, так и за крайнего правого, не разделяя политических взглядов ни того, ни другого, но принимая во внимание одни их научные заслуги.
В начале своего пребывания в Одесском университете он вел агитацию в пользу усиления научной деятельности преподавателей естествознания и даже подал об этом доклад в физико-математический факультет1. Он доказывал, что профессора естественных наук для действительного знания своего предмета должны самостоятельно исследовать живую фауну и флору; ввиду этого он предлагал ряд мер, дающих возможность биологам получать командировки в такие времена года и местности, где они могли бы делать личные исследования. «Нет никакого сомнения, — говорил он, — что если предлагаемые меры будут введены в употребление, то научная деятельность по естествознанию расширится у нас весьма значительно. В таком случае недалеко от нас время, когда нашим молодым ученым окажется вовсе не нужным отправляться в немецкие университеты, и когда они будут ездить за границу уже с полной подготовкой для самостоятельных научных исследований» . Комиссия, рассмотревшая доклад, потребовала переработки его, вследствие «высочайшего повеления о крайней осмотрительности при испрошении командировок преподавателям» . Илья Ильич несколько изменил редакцию доклада, но, несмотря на то, что он был принят университетским советом, — министерство отвергло его, уже тогда начиная противодействовать всякому проявлению независимой мысли, даже чисто научного характера; Но вскоре положение университета стало еще тяжелее. Во второй половине 70-х годов реакция в России все усиливалась, и в самом университете наступили условия в высшей степени неблагоприятные для научной деятельности. Одесский университет и раньше отличался партийными интригами. Профессора местного, малорусского происхождения относились враждебно к пришлым «москвичам», но от этих дрязг местного характера можно было устраниться. Между тем наступившая политическая реакция вызвала гораздо более серьезную рознь, основанную на «либеральных» или «реакционных» взглядах. Студенты, поглощенные политикой, совершенно перестали интересоваться наукой. При таких условиях нормальная научная деятельность становилась невозможной.
Видя, что политика и сверху и снизу охватывает университет, Илья Ильич, однако, все еще старался уйти от нее в лабораторию, но уже не находил спокойствия духа, необходимого для научной работы. Он мог предаваться ей исключительно вне университета — во время каникул или командировать. Так тянулось до 1881 года, когда после 1 марта реакция достигла крайних пределов. Правительство всюду видело крамолу, без всякого законного повода преследовало так называемые «неблагонамеренные» элементы.
Хотя университет еще номинально сохранял свою автономию и устав 63 года, но в действительности высшие власти постоянно противодействовали всякому проявлению его самостоятельности. Профессора, выбранные советом, утверждались министерством вовсе не сообразно научным достоинствам, а только по степени «благонадежности» . Кафедры стали наводняться невежественными и темными личностями.
Теперь дело касалось уже сохранения жизненных начал и достоинства университета, а потому силою вещей Илья Ильич был втянут в общий водоворот. Страстное, деятельное участие принимал он в борьбе за независимость университета до тех пор, пока была малейшая надежда отстоять ее. Как в светских, так и в факультетских заседаниях он никогда не упускал случая открыто и резко высказывать свое мнение, за что в университете его считали «беспокойным» элементом. Но когда министерство стало систематически кассировать постановления совета, — всякий раз, когда они не соответствовали реакционному направлению, отнимая таким образом единственное средство борьбы, — тогда Илья Ильич решил уйти из университета; убеждения его этого требовали; к тому же нервы его больше не выдерживали вечных волнений и возмущения при виде того, что творилось.
В то время средства не позволяли ему жить без заработка, поэтому он заручился обещанием председателя полтавской земской управы А. Ф. Заленского выхлопотать ему место земского энтомолога. Написав одновременно прошение об отставке, он держал его в кармане до первого удобного случая. Последний не замедлил представиться.
Консервативная партия юридического факультета подняла вопрос о ранее признанной очень талантливой и дельной диссертации Герценштейна (ставшего впоследствии видным деятелем государственной думы и убитого черной сотней). Усматривая в ней социалистическое направление, партия эта желала нанести удар либеральному профессору, признавшему диссертацию. Декан юридического факультета предложил впредь не принимать подобных диссертаций, на что факультет согласился. Все это вызвало целую бурю негодования в университете; студенты устроили враждебную демонстрацию декану, и волнения приняли очень серьезный, характер, грозивший исключением многих студентов. Попечитель просил профессоров, имевших влияние на молодежь, между прочим Илью Ильича, уговорить студентов возобновить занятия. Профессора согласились под непременным условием удаления декана, вызвавшего волнения своим поведением. Попечитель обещал; волнения тотчас прекратились, но декан не был уволен, а некоторые студенты были строго и несправедливо наказаны. Тогда Илья Ильич подал прошение об отставке. Оно, конечно, было принято начальством с большим удовольствием.
Таким образом закончилась университетская деятельность Ильи Ильича.
Помимо университетстих курсов Илья Ильич читал и публичные лекции. В те времена женщины допускались исключительно на медицинский факультет, поэтому публичные курсы давали им возможность расширить образование и посещались ими очень усердно. Илья Ильич относился крайне сочувственно к высшему женскому образованию, считая его необходимым для общего развития. Он, однако, не думал, чтобы женщина могла внести творчество в науку. Он считал гениальность «вторичным мужским половым признаком» . Женщины, говорил он, не создали ничего гениального даже в тех областях, которые были им издревле доступны, как музыка и всякие прикладные искусства. Слишком редкие исключения только подтверждают правила. Он, однако, на этом основании вовсе не считал женщину ниже мужчины, а только констатировал, что свойства их не одинаковы.
Университетские волнения и неприятности дурно отзывались на здоровьи Ильи Ильича. Уже в 1877 году, вследствие крупной университетской истории[1], у него в первый раз разболелось сердце, — начало продолжительного болезненного периода В 1878 году он советовался в Вене с знаменитым кли Бамбергером; тот. однако, не нашел у него ничего
ством и сильно переутомился. Болезненные; сменились упорными головокружениями и бессонницей, что привело его к крайне нервному состоянию. На основании лег-кого затруднения речи он предположил у себя начало бульбарного паралича; это окончательно подкосило его, и в 1881 году, под влиянием нервного возбуждения, он решил покончить с собой. Чтобы скрыть от близких, что смерть его произвольна, он привил себе возвратный тиф, избрав именно эту болезнь для решения вопроса, заразительна ли она через кровь. Ответ казался положительным: он заболел крайне тяжелой формой возвратного тифа. Несмотря на серьезность своего положения, он, однако, продолжал отдавать себе отчет в окружающих событиях. Покушение 1 марта вызвало в нем сильнейшее волнение так как он предвидел, что оно приведет к крайней реакции; выборы нового реакционного ректора заставляли его бояться еще большей реакции в самом университете. Все это тяжело отразилось на ходе его болезни, усиливая угрожающее расстройство сердечной деятельности, усложненное разлитием желчи. Кризис второго приступа болезни сопровождался особенным чувством «умирания» . При этом в полусознании ему чудилось, что он решил вопросы человеческой этики что доставляло ему несказанное удовлетворение. Впоследствии факт этот даже подал ему повод предположить, что смерть может сопровождаться приятными ощущениями. Но его сильная природа одолела все угрожающие симптомы. Во время выздоровления у Ильи Ильича развилась величайшая жажда жизни, жизнерадостное настроение, какого он никогда не испытывал. Нравственное и физическое его равновесие вполне восстановилось, несмотря на последовавшее острое воспаление глаз (хориоидит) — следствие возвратного тифа. К счастью, оно не только не оставило следов на его зрении, но, напротив, после этого глаза его окончательно окрепли, никогда более не беспокоили его, так что он мог безнаказанно очень много микроскопировать до конца жизни. Однако возвратный тиф, повидимому, был одной из причин развития той сердечной болезни, от которой он умер.
После возвратного тифа у него наступило как бы общее возрождение: в нем в высокой степени развилась любовь к жизни, здоровье сделалось цветущим, энергия и трудоспособность большими, чем когда-либо, прежний пессимизм молодости стал, наконец, постепенно блекнуть перед зарею зарождающегося оптимизма его зрелого возраста.
Пока слабость зрения еще не позволяла Илье Ильичу микроскопировать, он исследовал тех самых эфемер, мысль о которых спасла его в тяжелую минуту жизни. Он хотел выяснить, как действует естественный подбор относительно этих насекомых, живущих всего несколько часов, вовсе не питающихся из-за неразвитых ротовых органов, следовательно не подверженных закону борьбы за существование и не имеющих времени приспособиться к внешним условиям.
Летом 1875 года он изучал эфемер на Гмунденском озере и на Дунае. Он наблюдал брачный полет, к которому сводится вся жизнь взрослых поденок (Palingenia Iongicauda), завершающая длинную личиночную стадию их развития. Прозрачные насекомые носятся над водой как облака; из них, точно снежные хлопья, падают мертвые особи, — это трагический заключительный аккорд брачного полета. Илья Ильич хотел выяснить механизм такой внезапной, по-видимому физиологической, смерти. Не получив определенного результата ни на этот раз, ни в следующем году на Кавказе, где он продолжал свои исследования, он окончательно убедился, что жизнь эфемер слишком коротка для того, чтобы на них решить интересовавшие его вопросы; поэтому, как только зрение его окрепло, он вернулся к прерванному изучению происхождения многоклеточных существ.
Исследуя развитие низших губок, он нашел у них три зародышевых пласта, как и у других типов животных, но пласты эти не представляют соответственной обособленности и независимости. У некоторых низших губок мезодерма появляется раньше энтодермы, которой дает начало. Имея общее происхождение, оба эти пласта обнаруживают общие основные свойства. Таким образом подвижные амебоидные клетки мезодермы низших губок выполняют пищеварительную функцию в большей даже степени, чем клетки энтодермы, входящие обыкновенно в состав пищеварительных органов. Это нисколько не удивительно, так как у первобытных существ функциональные признаки так же мало разграничены, как и морфологические. Они прочно устанавливаются только более высокой диференциацией организма. Илья Ильич связал эти новые факты с наблюдением, сделанным им еще в 1865 году на низших червях, земляных планариях (Gеоdesmusbi1ineatus). У них также вовсе нет обособленной пищеварительной полости, функция которой заменяется внутриклеточным пищеварением паренхиматозных клеток, заполняющих эту полость. Такое внутриклеточное пищеварение еще более приближает низших червей и губок к высшим инфузориям, с которыми они находятся в ближайшем родстве. Ввиду всех этих наблюдений, Илья Ильич спросил себя, не является ли вообще внутриклеточное пищеварение первичным? Разыскивая следы его в течение следующих лет, он нашел такое пищеварение у низших ресничных червей (mesostomum и planaria), а затем у кишечнополостных (coelenterata) и у иглокожих.
Эти и другие наблюдения, сделанные им в период от 1876 до 1886 года, позволили ему окончательно установить, что первобытное пищеварение действительно внутриклеточное; низшие многоклеточные существа или не имеют обособленной кишечной полости, или она развивается лишь вторично, как, например, у гидрополипов и низших медуз. Но даже когда полость эта существует и функционирует, мезодермальные клетки могут также параллельно продолжать переваривать пищу.
Вопрос о первобытных, родоначальных предках многоклеточных не мог быть решен непосредственным наблюдением, потому что между одно- и многоклеточными существует пробел вследствие исчезновения промежуточных форм. Для пополнения этого пробела приходится прибегать к гипотезам, основанным на истории развития. В ней в общих чертах повторяются все низшие ступени, от которых произошло данное животное. Таким образом, частная история развития отражает в себе общую эволюцию.
ПРОПУЩЕН ТЕКСТ!!!!!
щей низшей стадии развития (паренхимуле), с другой, — можно было таким образом восстановить связь между одноклеточными и многоклеточными животными: нераздельная колония становится многоклеточной особью.
Изучая генетическую связь существ, Илья Ильич в то же время усердно продолжал свои исследования внутриклеточного пищеварения. В 1879 году в Неаполе и Мессине ему удалось установить, что мезодермические клетки многих иглокожих и кишечнополостных заключают в себе посторонние тела, несмотря на то, что снабжены обособленной и функционирующей пищеварительной полостью. Это доказывало, что даже сложные диференцированные организмы сохраняют, однако, и примитивные клетки с самостоятельным пищеварением. Все эти исследования касающиеся как единства происхождения многоклеточных, как клеток, входящих в их состав, так и внутриклеточного пищеварения, Мало-помалу подготовляли в уме Ильи Ильича создание фагоцитной теории.
Лето 1880 года мы провели в Киевской губернии, в имении моих- родных. Злаки в то время сильно страдали от жуков (anisoplia austriaca), причинявших большой вред всему краю. Близко принимая к сердцу такое бедствие, Илья Ильин придумывал, как бы помочь ему. Несколько лет раньше, случайно заметив на окне большую мертвую муху, всю. поросшую плесенью, повидимому причинившей ее болезнь и смерть, он спросил себя: нельзя ли бороться с вредными насекомыми, распространяя на них искусственные эпидемии?
Теперь он вернулся к этой мысли и усердно занялся разработкой ее. Найдя на трупах жуков (anisoplia) грибок мюскардину, обволакивающий его своими нитями, он успешно стал заражать здоровые особи этим грибком. Сначала он производил свои опыты лабораторным путем, впоследствии же граф Бобринский предоставил ему для этого опытные поля. Результаты оказались очень ободряющими, и он передал разработку прикладной стороны вопроса одному молодому энтомологу, Красильщику. Илье Ильичу же работа эта послужила исходной точкой для исследований инфекционных болезней.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ДЕРЕВНЯ
Весной 1881 года, тотчас после выздоровления Ильи Ильича от возвратного тифа, мы поехали к моим родным в Киев и застали отца умирающим. Он поручил Илье Ильичу быть опекуном семьи, которая переехала в 'Одессу, и мы поселились все вместе. Но уже через год умерла и моя мать. С тех пор Илья Ильич принял на себя ведение дел семьи.
Так как он никогда раньше не занимался сельским хозяйством, а наша семья жила на доходы с земельной собственности, то ему сразу пришлось ориентироваться в этой области. Значительную помощь оказал ему граф Владимир Алексеевич Бобринский, с которым он раньше познакомился по поводу исследований мюскардины.
Граф Бобринский имел на него большое влияние в том смысле, что отклонил его от прежних теоретических воззрений на земельные и хозяйственные вопросы. Раньше Илья Ильич считал общинное землевладение самой желательной формой; Бобринский же убедил его, что, по крайней мере в Юго-западном крае, эта форма не пригодна.
Илья Ильич пламенно желал быть полезным крестьянам своей деревенской деятельностью. Он начал ее с того, что отдал свое профессорское жалованье, полученное при выходе в отставку, на постройку школы в нашем имении Поповке, Киевской губернии. Но и это исключительно образовательное дело встретило немало препятствий со стороны властей, искавших в нем политическую подкладку.
Несмотря на то, что между Ильей Ильичом и крестьянами установились очень хорошие личные отношения, это не могло устранить многого, что вызывалось общим положением земельного вопроса: недостатком крестьянского надела и примитивными способами ведения их хозяйства.
Незадолго до смерти отец унаследовал от своей тетушки землю в Чигиринском уезде (Красноселку), так что Илье Ильичу пришлось сразу заведывать обоими имениями и применяться к различным условиям каждого из них. Оба были в аренде у евреев, которых притесняли и власти и крестьяне; Илье Ильичу постоянно приходилось улаживать всякие столкновения. Особенно сложным было положение в Чигиринском уезде, где революционно настроенные крестьяне считали, что земля должна принадлежать им и что этого можно добиться, вытеснив арендаторов. Ввиду этого крестьяне производили постоянные потравы, вырывали свеклу и т. д.
Илья Ильич придумывал разные компромиссы, чтобы уладить дело; он уговорил арендатора сдать часть земли самим крестьянам; но из этого ничего не вышло, так как последние не выполняли договоров. Между тем отношения с арендаторами все обострялись. В 84-м году, предвидя неминуемую катастрофу, Илья Ильич обратился к местным властям, объясняя им, что положение очень опасно и может повести к непоправимому. Но никаких предупредительных мер не было принято, под предлогом, что еще ничего не произошло. Как бы в ответ, зачинщики потрав варварским образом убили сторожа, своего же крестьянина, мешавшего им делать выпасы. Тогда явились всякие административные власти; зачинщики и убийцы были арестованы и двенадцать человек сослано на Сахалин.
Все эти тяжелые события несказанно волновали Илью Ильича, особенно ввиду полного бессилия помочь делу. Как только выдел стал возможным, он продал часть нашей личной земли крестьянам; но это, по существу, не могло уладить общего положения. Помимо тяжелой нравственной стороны, все эти обстоятельства постоянно отвлекали его от научной деятельности. Поэтому он был очень счастлив, когда в 87-м году мой брат Николай, окончив Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию, взял на себя управление семейными делами. Илья Ильич был также доволен, что, несмотря на свою неопытность и все затруднения, мог сдать дела семьи в удовлетворительном состоянии.
Благодаря наследству, полученному нами от моих родителей, он имел возможность отказаться от своей доли панасовского наследства в пользу детей своего брата и, подав в отставку из Одесского университета, не искать места, а самостоятельно заняться научной работой.
Для своих исследований ему необходимо было ехать на море. И вот осенью 1882 года мы отправились на всю зиму в Мессину. Так как трое моих младших братьев и сестра были еще малы, мы со старшей сестрой не хотели расставаться с ними и взяли их с собой.
Илья Ильич, очень любивший детей, нисколько не тяготился ими, а, напротив, весело и бодро брал на себя все заботы путешествия и постоянно придумывал дорогой разные развлечения. Дети, чувствуя в нем баловника, всегда обращались именно к нему, «пророку» , как они прозвали его, за всякими «позволениями» , когда не надеялись получить их от нас.
ГЛАВА ПЯТАЯ. МЕССИНА И ФАГОЦИТНАЯ ТЕОРИЯ
Приехав в Мессину, мы поселились в маленькой квартире, с чудным видом на море, за городом, в местечке Ринго, на самой набережной пролива. Помещение было тесное, так что лабораторию пришлось устроить в гостиной, но зато Илье Ильичу стоило только перейти набережную, чтобы найти рыбака, доставлявшего зоологический материал и возившего на экскурсии. Илья Ильич очень любил Мессину из-за ее богатой морской фауны, чудной природы и вида на пролив со спокойным очертанием противоположного Калабрийского берега. Теперь, более чем когда-нибудь, наслаждался он всем этим после пережитых университетских волнений и с увлечением предавался научной работе. Впоследствии он всегда любил вспоминать это пребывание, связанное с главной фазой его научной деятельности — созданием фагоцитной теории.
Много позднее по поводу землетрясения и гибели Мессины (1908) он написал воспоминания о ней, заканчивая их следующими строками:
«Таким образом, в Мессине совершился перелом в моей научной жизни. До этого зоолог — я сразу сделался патологом, Я попал на новую дорогу, которая сделалась главным содержанием моей последующей деятельности. Я с особенным чувством вспоминаю это давно прошедшее время и с нежностью думаю о Мессине, катастрофа которой меня глубоко затронула. Говорят, что Мессину решено выстроить вновь на том же месте, но совершенно иначе, чем прежде... Это будут низкие здания, расположенные на широких улицах и построенные из особого материала. Это будет уже новая Мессина, не моя, не та, С которой у меня связано столько дорогих воспоминаний...».
Илья Ильич продолжал заниматься вопросами внутриклеточного пищеварения и происхождения кишечного канала с генетической точки зрения; он предчувствовал, что разрешение этой задачи должно привести к крайне интересным выводам общего характера.
Исследования мезодермической пищеварительной деятельности у медуз все более убеждали его в том, что клетка мезодермы — остаток первичных пищеварительных элементов; у низших животных, как у губок, они функционируют, еще не обособляясь; у других же (кишечнополостных и иглокожих), хотя энтодерма уже обособилась в пищеварительную полость, но подвижные клетки мезодермы сохраняют свои внутриклеточные пищеварительные свойства.
Еще ближе изучая эти явления, он наблюдал скопления мезодермических клеток вокруг введенных в организм зерен кармина. Все это подготовляло почву фагоцитной теории, и вот как сам он описывает зарождение ее1:
„В чудной обстановке Мессинского пролива, отдыхая от университетских передряг, я со страстью отдавался работе. Однажды, когда вся семья отправилась в цирк смотреть каких-то удивительных дрессированных обезьян, и я остался один над своим микроскопом, наблюдая за жизнью подвижных клеток у прозрачной личинки морской звезды, — меня сразу осенила новая мысль. Мне пришло в голову, что подобные клетки должны служить в организме для противодействия вредным деятелям. Чувствуя, что здесь кроется нечто особенно интересное, я до того взволновался, что стал шагать по комнате и даже вышел на берег моря, чтобы собраться с мыслями. Я сказал себе, что если мое предположение справедливо, то заноза, вставленная в тело личинки морской звезды, не имеющей ни сосудистой, ни нервной системы, должна в короткое время окружиться налезшими на нее подвижными клетками, подобно тому, как это наблюдается у человека, занозившего палец. Сказано — сделано. В крошечном садике при нашем доме, в котором несколько дней перед тем на мандариновом деревце была устроена детям рождественская «елка» я сорвал несколько розовых шипов и тотчас же вставил их под кожу великолепных, прозрачных как вода, личинок морской звезды.
Я, разумеется, всю ночь волновался в ожидании результата и да другой день рано утром с радостью констатировал удачу опыта. Этот последний и составил основу теории фагоцитов, разработке которой были посвящены последующие 25 лет моей жизни» .
В этом столь простом опыте Илью Ильича поразило основное сходство описанного явления с образованием воспалительного выпота2 у человека и высших животных. Выпот этот, или гной, состоит из белых кровяных телец, лейкоцитов, которые тоже не что иное, как подвижные мезодрмальные клетки. Но в то время как у высших при этом замешаны сосуды и нервная система, у личинок морской звезды, за отсутствием этих органов, все дело сводится к скоплению подвижных клеток вокруг занозы. Отсюда ясно, что сущность воспаления заключается в реакции со стороны подвижных клеток, между тем как явления со стороны сосудистой и нервной системы имеют лишь второстепенное значение.
Итак, рассматривая явление в его простейшем выражении, воспаление сводится к реакции мезодермальных клеток; Илья Ильич далее рассуждал следующим образом: воспаление у человека, в. громадном большинстве случаев, возникает вследствие заражения микробами; следовательно сущность его должна заключаться в противодействии им со стороны подвижных мезодермальных клеток; будучи пищеварительными клетками, они должны уничтожать микробов, поедая их, и этим обусловливать выздоровление. Воспаление, следовательно, целебная реакция организма, а сопровождающие его симптомы3 выражают акт борьбы мезодермальных клеток против микробов.
Чтобы проверить эти соображения, он стал исследовать, какие именно подвижные мезодермальные клетки личинок морских звезд и других беспозвоночных поглощают введенные в них микробы.В Мессине в то время профессором зоологии был известный немецкий ученый Клейненберг, которому Илья Ильич сообщил свои опыты и. теорию. Клейненберг очень увлекался ею, находя ее «чисто гиппократовской мыслью» . « Dass ist ein wahrer Hippokratischer Gedanke» , — повторял он и советовал поскорее изложить ее в научном журнале. Илью Ильича также очень поощрял Вирхон, приезжавший в Мессину и видевший его опыты и препараты. Он находил их весьма доказательными, но в то же время советовал большую осторожность в истолковании явления, говоря, что в медицине принято как раз обратное объяснение: в то время думали, что белые кровяные шарики не только не уничтожают микробов, а, напротив, служат им благоприятной средой и разносят их по всему организму.
Илья Ильич навсегда сохранил глубокую признательность к Клейненбергу и Вирхову за их доброжелательное отношение при вступлении его в новую область своей научной деятельности.
Когда в Мессине наступила жара, мы переехали на прелестное Гардское озеро, в Риву, где он написал свою первую статью о воспалительной реакции у низших беспозвоночных и о поедании микробов их мезодермальными клетками. На обратном пути в Россию, в Вене, он зашел к зоологу Клаусу, у которого застал других коллег (Гробена и Гердера) и рассказал им свою теорию, видимо заинтересовавшую их. Не будучи знаком с древне-греческим, он просил их перевести наименование «пожирающие клетки» на этот язык научной номенклатуры, и таким образом эти клетки были окрещены «фагоцитами» . Клаус предложил Илье Ильичу напечатать работу в его журнале, где она и появилась (Untersuchungen uber intracellulare Verdauung bei wirbellosen Thieren. Arb. a. d. Zool. Inst. Wien. V, 2. 1883).
Итак, новорожденная фагоцитная теория была очень хорошо принята как натуралистами, так и отцом целлюлярной патологии — Вирховым.
Вернувшись в Россию, мы поехали в свое семейное гнездо — Поповку, где Илья Ильич должен был заняться земельными делами, но где в то же время он пользовался каждой свободной минуткой для продолжения своих исследований. При
наблюдении превращения личинок иглокожих ему раньше
факта, он надеялся найти физиологическое воспаление, т. е. такое, которое сопровождает нормальные а не патологические явления. Он рассчитывал обнаружить его при атрофии хвоста головастика во время превращения последнего в лягушку. Но вместо выхождения белых кровяных шариков он увидел, что ослабевшие элементы хвоста поедаются частью клеток самого мускульного пучка. Это выяснило ему, что фагоцитами могут быть не одни белые кровяные шарики, но и различные другие клетки мезодермического происхождения1.
Осенью 1883 года в Одессе состоялся съезд врачей и естествоиспытателей, на котором Илья Ильич сделал первое сообщение о фагоцитозе. В своей речи „О целебных силах организма» он фигурально сравнивал фагоцитов с армией, выступающей против нашествия врагов, и рассматривал фагоцитов как целебную силу организма. Начиная с этого сообщения, можно уловить уже первые проблески его будущего оптимистического направления. Открытием фагоцитной реакции организма он сделал первую брешь в своем пессимизме относительно человеческой природы, разоблачив в самой этой природе целебные элементы, которыми наука может воспользоваться для борьбы с дисгармониями организма. Он начинал уже проникаться верою в могущество науки не только в этой борьбе, но и в установлении правильного миросозерцания вообще.
Он говорил2: «Теоретическая разработка вопросов естествознания (в самом широком смысле) одна только может дать правильный метод к познанию истины и вести к установлению законченного миросозерцания или, по крайней мере, к возможности приблизиться к нему» .
Однако до тех пор теория фагоцитов, как целебное свойство организма, была лишь гипотезой, так как Илья Ильич пока не наблюдал еще фагоцитоза при болезнях и не был знаком с патогенными микробами. Поэтому он поставил себе задачею исследовать их у низших животных, наиболее пригодных для этого, благодаря их простой организации и прозрачности. Ему удалось найти больных дафний — мелких, прозрачных ракообразных, которых легко наблюдать живыми под микроскопом (1884). Они часто заражены паразитическими грибками (Monospora biсuspidatа), игловидные споры которых вместе с пищею проникают в кишечный канал и прокалывая его, внедряются в полость тела. Здесь на них тотчас нападают подвижные фагоциты дафнии и то в одиночку, то сообща захватывает их. Если им удается переварить паразита, то дафния выздоравливает; в противоположном случае споры прорастают, выросшие из них грибки наводняют дафнию и убивают ее. Следовательно, выздоровление или смерть зависит от исхода борьбы между фагоцитами и паразитом3. Таким образом было получено фактическое подтверждение гипотезы о целебных силах организма. Не удовлетворяясь наблюдениями над низшими животными, Илья Ильич обратился к высшим млекопитающим, чтобы и у них изучить фагоцитоз при патологических явлениях. В те времена из болезнетворных микробов всего лучше были известны сибиреязвенные палочки. Илья Ильич нашел, что фагоциты способны поедать только наиболее слабых из них, или ослабленных искусственно; что же касается вирулентных палочек, то они даже не захватываются фагоцитами. Кроме того он убедился в том, что у невосприимчивых животных фагоцитоз очень силен и, наоборот,. что он слаб или отсутствует у восприимчивых животных1.
Таким образом возникал вопрос о причине невосприимчивости, — об иммунитете. Для изучения его Илья Ильич предохранял кролика вакцинами возрастающей силы и затем, впрыснув ему и контрольному (т. е. не подвергнутому впрыскиваниям) кролику очень вирулентную культуру, увидел, что у предохраненного кролика наступает сильнейший фагоцитоз и кролик выживает, в то время как у контрольного фагоцитоз; не обнаруживается, и он умирает. Илья Ильич объяснил эти факты постепенным приучением фагоцитов путем вакци нации к перевариванию все более вирулентных сибиреязвен ных палочек. По его мнению, суть иммунитета заключаете именно в приучении фагоцитов к борьбе с вирулентным
Убежденный в крайней важности этих фактов, он напечатал их в 1884 году в «Вирховском Архиве» и с трепетом ждал выхода медицинских журналов, думая найти в них отклик. Но никто не обратил внимания на эту статью, видимо, не поняв ее значения.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ И ПРЕБЫВАНИЕ В ТАНЖЕРЕ
В 1884 году Илья Ильич был опять отвлечен от работы: у моей старшей сестры и у меня оказались слабые легкие; врачи советовали на зиму везти нас на юг; Илья Ильич очень встревожился и поспешил выполнить этот совет. В то время младшие мои братья уже подросли, поступили в учебные заведения, так что мы могли уехать только с сестрами.
В Италии была холера, поэтому мы поехали в Испанию, рассчитывая найти там место, удобное для занятий Ильи Ильича и в то же время подходящее для нас в климатическом отношении. Но, проехав всю Испанию, мы не нашли ничего, удовлетворявшего обоим этим требованиям. Забравшись слишком далеко, чтобы вернуться, мы решили провести зиму на африканском берегу, в Танжере.
Хотя вообще Илья Ильич не увлекался туризмом, но из любознательности никогда не упускал случая знакомиться со всем интересным в странах, которые желал показать нам, руководясь своей обычной заботливостью. По вечерам мы читали вместе сочинения по истории и искусству Испании, а по целым дням неутомимо осматривали все достопримечательное.
История этой страны, проникнутая мрачным фанатизмом, отраженным в ее искусстве, суровая бесплодность всего центрального плоскогорья, замкнутый характер населения — все это не встречало отзвука в радостной, жаждущей света, душе Ильи Ильича. Он гораздо более любил милую, живую Италию с ее высоким культурным прошлым. Поэтому в Испании ему всего более нравился юг, похожий на Италию. Самое сильное впечатление произвели на него Гренада и Альгамбра с их величаво прекрасной природой и чудные сады в окрестностях Малаги, с пальмовыми аллеями и всей гаммой роскошной тропической растительности. В Гибралтаре, как зоолога, его очень занимали единственные в Европе свободно живущие мартышки. Он не мог оторваться от наблюдения их нравов, в то время, как они целой семьей потешно перепрыгивал с дерева на дерево над нашими головами. Он мог вдоволь предаваться своим наблюдениям, потому что в Гибралтаре пас застигли сильнейшие бури, мешавшие отходу пароходов в Танжер. Однако Илья Ильич очень стремился поскорее приняться за работу, и мы двинулись с первым рискнувшим выйти в море пароходом. Но волнение было еще так сильно, что с полпути пришлось вернуться с большими повреждениями судна. Во время общей паники Илья Ильич оставался совершенно спокойным, как бы не отдавая себе отчета в опасности, что с ним часто случалось в тех областях жизни, с которыми он был мало знаком. Через несколько дней можно было, наконец, переправиться в Танжер.
Первое впечатление от этого арабского приморского города было крайне сильным. С высокой мечетью и плоскими крышами домов расстилался Танжер перед нами, залитый ярким солнцем, весь белый и ослепительный. С парохода сходили на лодки довольно далеко от берега; мгновенно пароход был окружен толпой людей самых разнообразных оттенков кожи, от матовых арабов до чернейших негров. В ярких живописных костюмах они кричали, жестикулировали, хватали наши вещи и нас самих и увлекали в лодки или сажали на плечи и переносили, сами идя по пояс в воде. Это бурное движение, шум и ослепительный свет сразу ввели нас в круг новых и сильных ощущений.
Еще в Гибралтаре Илья Ильич сговорился о нашем устройстве с живописным арабом из Танжера, знавшим по-испански. Он доставил нам очень примитивную квартиру, сам нам готовил и служил проводником. Прежде всего мы заторопились к морю, чтобы ориентироваться насчет зоологического материала. Увы! Море оказалось почти пустынным... После длинных поисков найдены были лишь редкие морские ежи, и Илье Ильичу предстояло всю зиму довольствоваться одним этим жалким материалом. Он принялся за изучение истории раз-вития этих животных для пополнения в ней некоторых пробелов.
He имея возможности много работать из-за отсутствия материала, он делал с нами длинные прогулки, во время которых для развлечения моей маленькой сестры сочинял ей бесконечные крайне смешные сказки.
Сначала нас очень занимали жизнь и нравы страны. Пестрая, живописная толпа, величавые, библейские типы арабов, бронзовые берберы и негры, фанатичные секты айсау, укротители змей скачки воинов на гордых арабских конях по песчаному берегу моря, курильщики опиума, таинственные силуэты закутанных женщин с дивными глазами, молитвенный призыв с минарета — вся эта чуждая, экзотическая жизнь захватывала нас.
Однако мало-помалу дикость нравов, вечная стрельба по поводу всяких обрядов, постоянная кровавая месть, проявления жестокого фанатизма и одновременно полное отсутствие каких бы то ни было культурных ресурсов — действовало на нервы и, в конце концов, тяготило. Илья Ильич томился бездействием, хотя бодро и с обычной веселостью переносил неудачу. Он утешался тем, что пребывание в Танжере, по крайней мере, имело отличное влияние на здоровье всех нас.
Наконец весной могли мы уехать в Вилла-Франку, где он тотчас же принялся за работу и успешно занялся историей развития медуз.
Уже в 1886 году мог он напечатать монографию по их эмбриологии и окончательно формулировать в ней свою теорию фагоцителлы и генетической связи животных, о которой была речь выше (в главе 3-й этой части).
Затем мы переехали в Триест, где Илья Ильич изучал морских звезд, пополняя свои исследования о происхождении мезодермы. В Триесте он нашел в немецких медицинских журналах первый отзыв о фагоцитной теории. Это была враждебная критика Баумгартена, в которой он силился доказать несостоятельность выводов Ильи Ильича.
Сначала это очень сильно взволновало и огорчило его. Но как всегда, вслед за этим наступила реакция и стремление к новым исследованиям. Он решил, что ему необходимо заняться медицинской стороной вопроса, чтобы на этой почве доказать правоту своих воззрений.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОДЕССКАЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
В 1885 году были опубликованы результаты исследований Пастера относительно предохранительных прививок бешенства. Одесское городское управление, решив открыть бактериологическую станцию для прививок, командировало д-ра Гамалею в Париж для ознакомления с новым методом и пригласило Илью Ильича быть заведующим станцией. Он взял на себя ведение научных исследований, а два его бывших ученика (доктора Бардах и Гамалея) должны были вести прикладную сторону дела.
Станция была открыта в 1886 году на средства одесского городского управления и херсонского губернского земства. Вот как Илья Ильич описывает свое кратковременное пребывание на одесской бактериологической станции1:
«Покинув государственную службу, я таким образом попал в услужение городу и земству. Поглощенный работой, практическую часть, т. е. прививки и приготовление вакцин, я передал моим молодым товарищам. Казалось, дело должно было пойти успешно.
Вновь возникшее бактериологическое учреждение с жаром принялось за работу, но против него начали оказывать противодействия. Местные представители врачебной власти стали производить нашествия с тем, чтобы усмотреть какое-нибудь нарушение правил. В медицинском обществе устраивали настоящую травлю против всякой работы, выходящей из новой лаборатории. Инстанции, дававшие средства, требовали практических результатов. Работа же для достижения последних встречала постоянные препятствия.
Для истребления сусликов, вредящих посевам злаков на юге России, нами было предложено испробовать действие бактерий так называемой куриной холеры. С этой целью в лаборатории. начали производить опыты; но в один прекрасный день было получено предписание одесского градоначальника, чтобы немедленно прекратить их. Мера эта была принята по воздействию местных врачей, которые под влиянием фельетона одной петербургской газеты, написанного очень бойко автором, не имевшим понятия о бактериологии, уверили градоначальника, что бактерии куриной холеры могут превратиться в заразное начало азиатской холеры. Генерал-губернатор, к которому я должен был обратиться, отменил постановление градоначальника, но, тем не менее, вся эта перипетия не осталась без влияния на деятельность лаборатории. К тому же, — и это оказалось особенно важным впоследствии, — среди немногочисленных деятелей ее обнаружился глубокий раскол. Лица взявшие на себя прикладную деятельность, перестали работать согласно. Я же, погруженный в научную работу, не мог заменять их, и это тем более, что, не имея диплома и звания врача, я не имел права делать прививок людям. Очутившись в таком положении, я увидел ясно, что мне, теоретику, лучше всего удалиться, предоставив лабораторию в руки практиков, которые, приняв на себя полную ответственность, смогут лучше выполнить свою роль».
Во время своего пребывания на одесской бактериологической станции Илья Ильич занимался инфекционными болезнями, отвечая на первые нападки против его фагоцитной теории. Начав с рожистых микробов, он убедился в том, что процесс рожистого заболевания и выздоровления вполне совпадает с требованиями фагоцитной теории. После этого он обратился к исследованию возвратного тифа в ответ на возражения Баумгартена, утверждавшего что в этой болезни не наблюдается никакой фагоцитной реакции (НЕТ КУСКА ТЕКСТА)
Ввиду невозможности опытов на человеке, Илья Ильич приобрел обезьян, и опыты, произведенные на них, также вполне подтвердили фагоцитную теорию, выяснив в то же время причину ошибки Баумгартена: он искал фагоцитоза лишь в крови человека, между тем как последний происходит в селезенке. Эти исследования фагоцитоза при роже и возвратном тифе были напечатаны в 1887 году в « Вирховском Архиве».
Илья Ильич был в полном разгаре плодотворной научной деятельности, когда на основании внешней оппозиции и разлада среди сотрудников в самой бактериологической станции должен был прийти к выводу, что не может далее оставаться в ней. Как раз в это время принц Ольденбургский устраивал в Петербурге бактериологический институт и звал туда Илью Ильича. Но, с одной стороны, боясь северного климата для моего здоровья, а с другой, уже убежденный по опыту, что, не будучи врачом, неудобно заведывать институтом с медицинским персоналом, он должен был отказаться. Между тем лаборатория была ему необходима. Не видя никакой возможности иметь ее в России, он стал серьезно подумывать искать приюта за границей.
«Проученный одесским опытом и зная, как трудна борьба с противодействиями, возникающими без всякой разумной причины со всех сторон, я предпочел поехать за границу и найти себе там тихий приют для научной работы».
Семейные обстоятельства более не удерживали нас, связь с Россией Мало-помалу обрывалась: выход из университета, разлад на одесской бактериологической станции, условия русской жизни, не подходящие для спокойной, научной работы, — одним словом «препятствия, исходящие сверху и снизу и сбоку», как говорил Илья Ильич, — вот что постепенно подготовило решение его покинуть родину.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОСМОТР ЗАГРАНИЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Осенью 1887 года мы поехали в Вену на международный конгресс гигиенистов, где в первый раз собирались бактериологи. Это дало возможность Илье Ильичу познакомиться со многими из них и несколько ориентироваться относительно заграничных лабораторий. Известный немецкий ученый Гюппе весьма любезно приглашал его в Висбаден работать в его лаборатории. Это очень соблазняло Илью Ильича, считавшего тихий университетский городок всего благоприятнее для научных занятий. Но, побывав в Висбадене, он увидел, что положение его там было бы крайне неудобным, ввиду враждебного отношения между собою лабораторий этого города; пришлось отказаться от плана столь заманчивого на первый взгляд.
В то время уже возникали многочисленные возражения против фагоцитной теории. На нее яростно нападал, между прочим, немецкий ученый Эммерих. Илья Ильич воспользовался своим пребыванием за границей, чтобы съездить в Мюнхен, объясниться с ним. При этом случае он убедился, что и там условия лабораторий не подходят ему.
Так как ему очень хотелось познакомиться с Пастером и его сотрудниками, сыгравшими в то время такую выдающуюся роль в науке, то мы направились в Париж, хотя вовсе не думали найти там приют и не подозревали даже, что это возможно. Вот как Илья Ильич описывает свою первую встречу с Пастером1: «Придя в лабораторию, устроенную для предохранительных прививок против бешенства, я увидел дряхлого старика небольшого роста, с полупарализованной левой половиной тела, с проницательными серыми глазами, обстриженными седыми усами и бородой, с черной ермолкой на голове, с коротко обстриженными волосами с проседью. Болезненно бледный цвет лица и утомленный вид подсказал мне, что я имею дело с человеком, которому осталось жить недолгие годы, быть может несколько месяцев.
Пастер принял меня очень радушно и тотчас заговорил об особенно интересовавшем меня вопросе борьбы организма против микробов: «Я сразу стал на вашу сторону, так как я давно был поражен зрелищем борьбы между различными микроскопическими существами, которых мне случалось наблюдать. Я думаю, что вы попали на верную дорогу».
Пастер в то время особенно был поглощен прививками бешенства и постройкой нового института. Ввиду огромных размеров здания и немногочисленности персонала, Илья Ильич решился спросить, может ли он рассчитывать быть принятым в качестве независимого исследователя. Пастер отнесся очень сочувственно к этому, не только согласился дать ему комнату для работы в новом институте, но предложил целую лабораторию. Вообще он был крайне любезен, пригласил нас к себе обедать, познакомил с семьей и сотрудниками. Они произвели - на Илью Ильича самое хорошее впечатление; все это склоняло его к переезду в Париж. Однако его еще пугала мысль о жизни в огромном, шумном городе; ему казалось, что для спокойной научной работы благоприятнее маленький университетский городок. Поэтому, прежде чем принять окончательное решение, он хотел осмотреть еще несколько бактериологических лабораторий. Мы съездили в Страсбург, Франкфурт и Бреславль, но всюду условия оказались неподходящими.
На обратном пути, в Берлине, Илья Ильич хотел познакомиться с Кохом и показать ему некоторые интересные препараты фагоцитоза. Великий ученый принял его крайне сухо. Осмотрев препараты селезенки при возвратном тифе, он долго не хотел признавать фагоцитоза в этой болезни; когда же, наконец, не мог более отрицать очевидности, все же оставался враждебным фагоцитной теории, а вслед за ним в том же смысле высказались все окружавшие его ассистенты.
Илья Ильич был крайне озадачен и огорчен таким недоброжелательным отношением к его теории, основанной на твердо установленных фактах. Мы поспешили уехать из Берлина.
Много лет спустя, когда фагоцитная теория стала уже признанной даже в Германии, Кох и многие немецкие ученые очень любезно и дружелюбно принимали Илью Ильича, что сгладило в нем тяжелое впечатление далекого прошлого. Но тогда контраст впечатлений между Парижем и Германией был так велик, что Илья Ильич уже более не колебался в выборе.
Вернувшись в Одессу, он стал понемногу подготовлять свой отъезд и уход со станции. Тем не менее он еще успел сделать некоторые исследования в ответ на нападки, сыпавшиеся на его теорию со всех сторон. Между прочим он исследовал фагоцитоз при бугорчатке и получил очень убедительные результаты в пользу своих воззрений. Весною он взял отпуск и передал управление станцией д-ру Гамалее. Мы же переехали в деревню в ожидании окончательного отъезда.
Между тем станцией производились прививки сибирской язвы в больших размерах на стадах овец крупного херсонского помещика Панкеева. Будучи уже в деревне, Илья Ильич получил телеграмму о том, что после прививки первой вакцины погибло несколько тысяч овец.
Хотя он фактически более не нес ответственности, тем не менее был страшно удручен таким оборотом дела и тотчас поехал в Одессу, чтобы разобрать причину катастрофы. Но, она осталась темной...
Этот тяжелый эпизод был последней каплей, переполнившей чашу. Наше переселение во Францию было окончательно решено.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЖИЗНЬ ВО ФРАНЦИИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЖИЗНЬ ВО ФРАНЦИИ. ПАСТЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ
Решив переселиться в Париж, мы стали знакомиться с современной французской литературой, думая в ней найти отражение души и нравов страны. «Реалистическая» беллетристика этой эпохи, несмотря на высокую художественность многих ее представителей, дала нам неблагоприятное и неверное понятие о французской жизни, рисуя ее крайне односторонне. Поэтому мы с некоторой тревогой спрашивали себя, не будем ли слишком отчужденными при новых условиях и сможем ли приспособиться к ним?
15 октября 1888 года мы приехали в Париж и остановились в маленькой гостинице Латинского квартала, недалеко от улицы Ульм, где тогда была прежняя лаборатория Пастера и его сотрудников: новое здание института не было еще готово. В лаборатории было мало места; приходилось тесниться; видя это, Илья Ильич боялся стеснять других и чувствовал себя неловко. Но уже через несколько месяцев новое здание было настолько подвинуто, что он первый мог перейти туда. Сначала ему отвели две комнаты в нижнем этаже, я служила ему ассистентом. Он был вполне доволен и счастлив, что мог, наконец, спокойно и сосредоточенно приняться за научную работу. Вскоре под его руководством стали заниматься молодые врачи1, число которых быстро возросло; тогда ему отвели во втором этаже целое большое отделение. Сам он работал в двух комнатах и не покидал их более в течение 28 лет, до конца жизни. Так осуществилась давняя, заветная мечта его. Вот что говорил он сам по этому поводу в своих воспоминаниях2:
«В Париже таким образом могла осуществиться цель научной работы вне всякой политики или какой-либо иной общественной деятельности. В России же препятствия, исходящие и сверху, и снизу, и сбоку, – сделали подобную мечту невыполнимой. Можно было бы думать, что для России еще не настало время, когда наука может оказаться полезной. Я с этим не согласен. Я думаю, напротив, что в России научная работа необходима, и от все души желаю, чтобы в будущем условия для нее сложились более благоприятно, чем в те времена, о которых я повествовал в предыдущих строках».
Вскоре он мог вполне оценить неоспоримые качества французов, их гуманность, терпимость, мягкость нравов, культурность и настоящую свободу мысли. Лояльность и корректность отношений делали жизнь легкой и приятной. Но еще гораздо ценнее было то дружелюбие, которое он встретил среди коллег и учеников. Пастеровский институт и Франция стали его второй родиной; когда впоследствии его приглашали в другие страны на самых заманчивых условиях, он обыкновенно отвечал, что из Пастеровского института перейдет в одно лишь место — в соседнее кладбище Монпарнасс. Но столь любимый им Пастеровский институт и после смерти продолжает давать ему приют и хранить его пепел...
Сам Пастер был всегда крайне доброжелательным и дружелюбным по отношению к Илье Ильичу. Первое время, пока здоровье позволяло ему, он часто приходил в его лабораторию, с интересом расспрашивал о занятиях и всегда горячо поощрял его. Он даже правильно посещал курс его лекций «о воспалении» . Потом, когда он уже не мог приходить, Илья Ильич постоянно навещал его и старался развлекать рассказами о текущих научных работах.
Ближайшими друзьями Ильи Ильича стали Ру и Дюкло. Сначала их сближала общность научных и институтских интересов; постепенно личная симпатия возрастала; их стали связывать прочные нити дружбы, сотканные из бесчисленных жизненных фактов, внушающих взаимное уважение, доверие и привязанность. К тому же Илья Ильич чувствовал безграничную благодарность к Пастеру и его сотрудникам за данную ими возможность работать в столь подходящей для него атмосфере.
Пастер с самого начала отнесся с большой симпатией к фагоцитной теории. Другие члены института, как чистые химики, находили ее слишком биологической, даже виталистической; но, ознакомившись с нею ближе, они признали ее. Найдя, таким образом, в Пастеровском институте не только благоприятные условия для работы, но и нравственную опору, Илья Ильич глубоко привязался к нему, вкладывал всю душу в его интересы.
В речи по поводу 70-летнего юбилея Ильи Ильича Ру нарисовал яркими красками картину, из которой привожу отрывок, столь живо изображающий роль Ильи Ильича в институте Пастера:
«В Париже, как в Петрограде, как и в Одессе, вы стали главой школы и зажгли в этом институте научный очаг, далеко разливающий свой свет. Ваша лаборатория самая жизненная в нашем доме, и желающие работать толпой стекаются туда. В ней обсуждается очередное событие в бактериологии; сюда приходят посмотреть интересный опыт; здесь исследователь ищет мысль, которая вывела бы его из затруднения, в котором он запутался. Именно к вам обращаются с просьбой проверить только что подмеченное явление; с вами делятся открытием, которое часто не переживает вашей критики; и, наконец, так как вы все читаете, то каждый и обращается к вам за нужной справкой, с просьбой сообщить содержание только что появившейся научной статьи, которой сам не прочтет. Это много удобнее, чем рыться в библиотеке, да и вернее, ибо таким образом избегаются ошибки переводчиков и истолкований. Ваша эрудиция так обширна и безошибочна, что обслуживает весь институт. Сколько раз я и сам ею пользовался. С вами не боишься быть навязчивым, потому что ни к одному научному вопросу вы не относитесь безразлично. Ваш огонь делает горячим равнодушного и скептику внушает веру. Вы -несравненный товарищ в работе; я могу это сказать, ибо не раз мне выпало счастье участвовать в ваших изысканиях. В сущности все делали вы. Еще больше, чем ваши знания, к вам привлекает ваша доброта. Кто из нас ее не испытывал? Я видел трогательные доказательства ее много раз, когда вы ухаживали за мной, как за родным ребенком. Вам так приятно оказать услугу, что вы благодарны тем, кому ее оказали... Согласно народному выражению — дом ваш — дом божий...».
«Мы находимся в тесном кругу, и это дает мне возможность говорить с полной откровенностью: я скажу, что не дать — для вас так тяжело, что вы предпочитаете лучше быть обманутым, чем отказать. Институт Пастера многим вам обязан. Вы принесли ему престиж вашего имени и работами своими и ваших учеников вы в широкой мере способствовали его славе. В нем вы показали пример бескорыстия, отказываясь от всякого жалования в годы, когда с трудом сводились концы с концами, и предпочитая скромную жизнь в этом доме — почетным и выгодным положениям, которые вам предлагались. Оставаясь русским по национальности, вы сделались французом по собственному выбору и заключили с институтом франко-русский союз задолго до того, как мысль о нем возникла среди дипломатов».
Первое время после основания нового Пастеровского института члены его были очень немногочисленны, и он носил почти семейный характер. Средства института были крайне незначительны; одна любовь к науке привлекала в него и связывала его членов. Их тогда сравнивали с монашеским орденом, сплоченным вокруг алтаря науки. Со временем, когда институт значительно разросся, он неизбежно утерял прежний интимный характер, но остался незаменимым научным очагом.
Уже в 1913 году по поводу 25-летнего юбилея института Илья Ильич следующими словами заключил свою оценку его деятельности:
«Взвешивая положительные и отрицательные стороны Пастеровского института, нельзя не признать, что первые очень значительно превышают последние. Вряд ли существует другое научное учреждение, в котором было бы так хорошо работать, как в нем. За 25 лет существования он представил этому достаточно доказательств» .
Горячо принимая к сердцу развитие научной стороны института, Илья Ильич постоянно размышлял о различных улучшениях, которые желательно было бы постепенно вводить
в нем. Он считал необходимым привлекать все активные научные силы, без различия национальностей; учреждать многочисленные стипендии для молодых ученых; вообще всеми способами содействовать научному духу и деятельности.
Ввиду быстро разрастающейся области бактериологии и тесного соприкосновения ее с другими науками, как, например, с химией и физикой, он считал желательным организацию коллективных работ, в которых принимали бы участие специалисты по различным отраслям, всесторонне преследуя разработку одного общего вопроса. До известной степени ему впоследствии удалось выполнить эту задачу у себя в лаборатории для разработки вопроса кишечной флоры. Но он считал полезными такие работы вообще, особенно в применении к изучению туберкулеза и рака, — задач трудных, сложных, продолжительных, требующих коллективных усилий и организации, устраняющей ненужные повторения индивидуальных исканий. Он считал необходимым устроить при Пастеровском институте клинику, приспособленную и открытую для исследовательской работы. Кроме того, ввиду изучения тех человеческих болезней, которые могут быть привиты лишь человекообразным обезьянам, он полагал, что следует выращивать их в колониях тропических стран, особенно из-за трудности доставки в Европу детенышей этих обезьян, на которых только и возможно производить опыты по детским болезням. С этой целью надо было бы командировать ученых на места.
Ввиду пользы распространения и популяризации научных и гигиенических понятий, он думал, что институту следовало бы организовать публичные курсы и лекции. Он придавал большое значение проникновению в жизнь результатов, добытых наукой, думая, что в борьбе с болезнями главную роль играют меры профилактики и гигиены; осведомленная относительно них публика могла бы активно содействовать предупреждению болезней. Ввиду этого он всегда охотно делился различными научными сведениями с журналистами и даже непосредственно с совершенно непосвященной публикой. С той же целью пользовался он всяким случаем, чтобы в статьях популяризовать гигиенические и медицинские вопросы.
Вообще наука никогда не оставалась для него мертвой буквой: самые отвлеченные идеи он всегда связывал с жизнью и находил, что они должны взаимно служить друг другу.
Помимо научных исследований, он читал лекции на курсах бактериологии для медиков при Пастеровском институте. Готовился к лекциям он чрезвычайно тщательно; несмотря на свою долголетнюю профессорскую опытность, он никогда не приступал к ним без волнения, особенно последние годы жизни. Он даже записывал первые фразы лекции, чтобы, читая их, дать себе время успокоиться. Но очень скоро он увлекался, забывая свое волнение, излагал ясно, живо возбуждая мысль и внимание слушателей.
Выше я привела мастерски сделанную Ру оценку роли Ильи Ильича в институте. Следующее письмо, написанное мне более года после его смерти одним из его ближайших учеников, ярко изображает то влияние, которое он имел, и глубину чувств, которые вызывал:
«... Вы пишете, что вы дорожите тем, что Илья Ильич живет в других. Да разве оно может быть иначе? Такая могучая фигура способна окрасить и осветить жизнь не одного человека, а целого поколения. Самым большим счастьем моей жизни я считаю то, что мне привелось провести лучшие годы в орбите Ильи Ильича, проникнуться его духом по отношению к науке и даже к событиям и людям. Эта связь сделалась настолько органической, что первый мой порыв — всегда поступить так, как бы желал этого Илья Ильич, но я чувствую к тому же еще потребность разделить то хорошее, что я получил от Ильи Ильича, с другими. Не знаю, удастся ли мне осуществить некоторые из задач, которые поставил себе Илья Ильич, но в чем я уверен, это, что дух его во всей нашей деятельности будет сохранен в чистоте. Илья Ильич будет всегда жить в нас, работавших возле него, и во всех тех, которые придут работать в его лаборатории. Да оно иначе и быть не может...».
Со своей стороны Илья Ильич был крайне отзывчив к своим ученикам и к некоторым из них относился совершенно отечески. Многие из них стали его друзьями и многолетними сотрудниками. Но вследствие своего пылкого, цельного темперамента, совершенно иным было его отношение в тех исключительных случаях, когда он имел дело с упорством на ложном, по его мнению, пути, с некорректным поступком или недобросовестностью в работе. Это совершенно выводило его из себя, и горе тому, кто подвергался вспышке его негодования. К. счастью, таковы были лишь редкие исключения. В общем, в его лаборатории царил научный дух; стремленья всех были сосредоточены на общих задачах и деятельности, душой которых был Илья Ильич.
Первый период его жизни во Франции был поглощен установлением, развитием фагоцитной теории и страстной борьбой в ее защиту. Вся его энергия ученого и борца была направлена на это, и, быть может, эти годы были наиболее интенсивной и бурной частью его деятельности. Когда, наконец, ему удалось прочно установить свою теорию, и она начинала быть признанной, — он продолжал свои исследования все с той же страстью, но уже спокойнее.
Возможность работать вне всяких посторонних забот и соображений переполняла его радостью и удовлетворением. Период его жизни между 50 и 65 годами был самым счастливым. Его душевное состояние и идеи претерпели значительную эволюцию. С годами его усиленная физическая и нравственная чувствительность, доставлявшие ему столько горя в молодости, значительно ослабели, и он стал гораздо менее импульсивным. Он меньше страдал от неприятных ощущений; мяуканье, лай уже не выводили его из себя; несправедливости общего характера и личные неприятности не вызывали более в нем отвращения к жизни и желания покончить с нею, а лишь стремление преодолеть их. Сначала перемена эта менее касалась его идей, чем ощущений и чувств.
Благодаря привычке анализировать себя он отдавал себе отчет в развитии в нем новой оценки окружающего; став менее чувствительным к крайним ощущениям, он был более чувствительным к нейтральным впечатлениям: музыка менее восхищала его, неприятные звуки менее раздражали его, но зато он наслаждался полным беззвучьем, тишиной; он становился равнодушным к вкусной еде, которую ценил раньше, но ему стала нравиться самая простая пища — хлеб, чистая вода; он не искал живописной местности, но несказанно наслаждался видом зеленеющей травки, распускающихся почек вокруг него; первые шаги, улыбка ребенка — приводили его в восторг и делали счастливым. Став менее требовательным, он ценил жизнь, какой она представлялась, ощущал непосредственную жизнерадостность. Инстинктивное «чувство жизни» расцвело в нем. Он теперь смотрел на человеческую природу и на жизнь с другой точки зрения, чем в молодости, потому что эволюция привела его к большему психическому равновесию: он приспособился.
В свою очередь и мысли его направились к более оптимистическому мировоззрению. Освободившись от ига чувствительности молодости, он находил в самой человеческой природе залоги для исправления ее дисгармоний помощью знания и воли. Годы прошли, пока совершилась эта эволюция. «Чтобы понять смысл жизни, — говорил он, — надо прожить долго; иначе находишься в положении слепорожденного, которому говорят о красоте красок».
В течение 28 лет, проведенных им во Франции, все его время было почти исключительно посвящено лабораторным занятиям. Пока институт не был еще на виду, он представлял тихое убежище для сосредоточенной научной работы; но по мере возрастания известности этого учреждения его покой стал все более и более нарушаться многочисленными посетителями со всего земного шара. Илья Ильич страдал от этого, но никогда не решался отказать кому бы то ни было, кто спрашивал его. Он вознаграждал потерянное время по воскресеньям и каникулам, когда покой водворялся в институте.
Долгие годы мы жили в самом Париже, поблизости от лаборатории (улица Дюто 18) и проводили только лето в Севре, где в 1898 году приобрели маленькую дачу. С 1903 года мы окончательно переселились туда; Илья Ильич дорожил чистым воздухом Севра; ему были полезны правильные, неизбежные прогулки, которые он должен был делать ежедневно для возвращения домой, и полный покой, вдали от городского шума; даже подъем на холм, где мы жили, казался ему благоприятным упражнением для сердца... Он любил Севр. Возвращение домой доставляло ему неизменное удовольствие. Так и вижу его, торопливо сходящим с поезда; из карманов торчат газеты и брошюры, читанные дорогой, в руках пакеты лакомств, которые он всегда привозил; ласковая улыбка озаряет его лицо; после первых слов привета он неизменно выражает удовольствие возвращения: «Какой воздух! Какая зелень! Какое спокойствие! Видишь, если бы не проведенный день в Париже, я бы уже менее чувствовал прелести Севра, покой в нем» . Он возвращался к семи часам и больше не работал; вечера были его полным ежедневным отдыхом: он всецело предавался ему, чувствовал себя нараспашку, шутил, рассказывал все события дня, говорил о своих исследованиях, о плане опытов следующего дня; часть вечера он читал вслух, а затем слушал музыку не только из любви к ней, но и для того, чтобы «перейти на другие рельсы» , — говорил он.
Он был несравненным спутником жизни; отзывчивый, откровенный, экспансивный, он щедро дарил сокровища своего сердца и ума. Во всем любил он простоту, не выносил условного и искусственного; от роскоши для себя лично у него было такое отвращение, что он не соглашался иметь золотых часов и вообще ничего, что не служило бы непосредственному употреблению. Единственною его роскошью было баловство других. Он любил тихую семейную жизнь, интимный круг друзей. Однако чувствительный ко всем серьезным проявлениям жизни, он охотно встречался с людьми или интересными, или могущими сообщить что-нибудь интересное.
В жизни, как и в науке, он всегда черпал материал для развития своих философских и нравственных идей и стремился, чтобы они в свою очередь служили жизни. Если он не мог разрешить данной задачи, то по крайней мере указывал ее значение. Эта проникновенность, внимание к сути вещей, вместе с творческим воображением, были одним из элементов, позволявших ему открывать новые пути и перспективы.
Бросая общий взгляд на свое прошлое, он говорил, что считает наиболее счастливым периодом жизни — годы, проведенные в Пастеровском институте; они были, несомненно, самыми благоприятными для его научной деятельности. За это он сохранил глубочайшую привязанность к институту до конца своей жизни.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЗАЩИТА ФАГОЦИТНОЙ ТЕОРИИ
Пока Илья Ильич был чистым зоологом, для него научная атмосфера была спокойна и ясна. Но все сразу изменилось, когда с фагоцитной теорией он в качестве натуралиста вступил на почву патологии; здесь коренились веками установленные традиции и общепринятые теории, вовсе не основанные на биологии.
Как в ненастный день мчатся и сталкиваются тучи, как кидается волна за волной, — так хлынули и следовали друг за другом нападки и возражения на его теорию. И вот началась для него эпическая борьба, продлившаяся 25 лет, пока, наконец, не восторжествовала фагоцитная теория, — его выросшее дитя. На каждое нападение и возражение он отвечал новыми наблюдениями и опытами, разбивавшими нападки, устранявшими возражения, и каждый раз от этого теория его становилась разработаннее, окрыленнее и прочнее.
Но одни только близкие знали, каких жизненных сил стоила ему эта борьба. Сколько бессонных ночей из-за возбужденной мысли, придумывания постановки нового доказательного опыта, сколько горестных, сколько радостных волнений. Это была такая кипучая, пламенная жизнь, что каждый год ее равнялся многим годам...
С самого переезда в Пастеровский институт Илья Ильич тотчас принялся за деятельную разработку и защиту фагоцитной теории. Он начал с опровержения Эммериха, утверждавшего, будто фагоциты не принимают никакого участия в уничтожении свиной краснухи. Затем опытами с сибирской язвой голубей он возражал на нападки Баумгартена и его учеников. Рядом опытов с сибирской язвой у крыс он отвечал Берингу, утверждавшему, будто иммунитет зависит от бактерицидного свойства сыворотки крови.
Всеми этими исследованиями Илья Ильич устанавливал, что как выздоровление, так и невосприимчивость зависят от поглощения и переваривания фагоцитами живых и вирулентных микробов. При естественной или искусственной вакцинации, т. е. при проникновении в организм ослабленных микробов, фагоциты, легко поедая их, постепенно приучаются к перевариванию и более ядовитых микробов, достигая этим полной невосприимчивости к их ядам. Процесс этот сравним с нашим собственным постепенным приучением к таким количествам ядов (никотина, мышьяка и т. д. ), которые, принятые сразу, были бы очень вредны.
Мало-помалу не только стали убеждаться в точности наблюдений Ильи Ильича, но последние подтверждались исследованиями других ученых. Роль фагоцитоза и невосприимчивости делалась все более очевидной, и вопрос этот совершенно созрел во Франции и в Англии, когда в Германии оппозиция была еще очень сильна. На берлинском конгрессе 1890 года был выдвинут вопрос об иммунитете; но в то время как Листер отнесся очень одобрительно к фагоцитной теории, Кох, наоборот, нападал на нее, говоря, что фагоциты не играют роли при невосприимчивости; по его мнению, она зависит от химических свойств крови.
Вскоре после этого Беринг открыл антитоксины. Это как бы говорило в пользу «гуморальной» , т. е. химической теории иммунитета; по ней микробы и их яды обезвреживаются не клеточными (целлюлярными) элементами организма, не фагоцитами, а химическими свойствами жидкой части крови — сыворотки, подобной, с этой точки зрения, различным дезинфицирующим веществам.
Хотя Илья Ильич и был убежден в прочности своих выводов, тем не менее, открытие это очень взволновало его. Он сейчас же принялся за ряд исследований, чтобы выяснить кажущееся противоречие между новым открытием и его теорией. В то время готовились к лондонскому международному конгрессу, где на первом плане должен был разбираться вопрос о невосприимчивости. Целый ряд докладчиков собирался в Лондон, — там должен был состояться турнир разных направлений.
Весной 1891 года Илья Ильич ездил в Англию по поводу своего избрания почетным доктором Кембриджского университета. За это пребывание он успел ближе познакомиться с англичанами; они внушали ему большую симпатию, которая с годами должна была еще более возрасти. Он любил оригинальность их серьезного обобщающего ума, их лояльность и энергию; он был им благодарен за внимательное, доброжелательное отношение к его научной деятельности и лично к нему самому. Поэтому его радовало, что именно в Англии, а не во враждебной ему Германии, состоится съезд, на котором ему придется выступать и дать решающий отпор своим противникам. Ввиду важности предстоящих прений, решено было выполнить целый ряд новых опытов. Илья Ильич предпринял их уже не только один, но и вместе с Ру и многими своими учениками. Вновь добытые факты укрепили его еще более в прежних выводах, и он поехал в Лондон относительно спокойным. Главными докладчиками на съезде были Ру и Бухнер. Доклад первого был всецело в пользу фагоцитной теории, а второго — в пользу гуморальной. Сам Илья Ильич выступил со сводкой результатов своих исследований и возражений против нападок на его теорию. В результате съезда ясно было, что фагоцитная теория начинала приобретать серьезные права гражданства. Вот что писал Ру из Лондона по поводу доклада Ильи Ильича: «Мечников сейчас занят демонстрацией своих препаратов и к тому же он не рассказал бы вам всего своего собственного успеха. Он говорил с такой страстью, что всех воспламенил. Мне кажется, что с сегодняшнего дня теория фагоцитов приобрела много новых друзей».
Итак, в результате лондонского конгресса и работ последних лет казалось, что фагоцитная теория невосприимчивости окончательно прочно установлена. Однако открытие Берингом антитоксинов все еще висело над нею как Дамоклов меч. Необходимо было во что бы то ни стало окончательно выяснить взаимную роль фагоцитов и антитоксинов в невосприимчивости организма. С этой целью Илья Ильич предпринял новые исследования, и ему удалось вполне доказательно установить тесную связь между иммунитетом и деятельность фагоцитов. Он полагал, что последние вырабатывают антитоксины, как продукт переваривания вакцинальных, т. е. ослабленных, токсинов. Он выводил это из того, что кровяная сыворотка кроликов, предохраненных против свиной краснухи, сама по себе не бактерицидна, т. е. не убивает микробов, не ослабляет их, а также не антитоксична в тех случаях, когда не заключает фагоцитов; наоборот, в их присутствии — она антитоксична. Следовательно существует явная причинная связь между невосприимчивостью животного и его фагоцитами. Этими опытами последнее убежище гуморальной теории казалось окончательно устраненным.
Илья Ильич видел главную причину оппозиции медиков против фагоцитной теории в том, что до тех пор в медицине изучали патологические явления исключительно на высших животных, вполне игнорируя низших. Между тем именно последние, благодаря простоте и первобытности своего организма, дают ключ к происхождению патологических явлений у высших, сложность которых часто мешает выделить существенное от второстепенного.
С целью выяснить эволюцию фагоцитарных явлений в области патологии Илья Ильич избрал одно из главных проявлений фагоцитоза в болезнях, а именно — воспаление, и в 1891 году прочел ряд лекций по этому вопросу. Исходя из факта, что нормальное пищеварение одноклеточных и низших многоклеточных животных служит им также способом защиты против всяких враждебных начал, он устанавливал, на основании сравнительного изучения всех ступеней животного царства, что этот способ борьбы и защиты наблюдается точно так же относительно клеток мезодермы, т. е. фагоцитов у всех животных вообще. Благодаря специальной чувствительности (химиотаксису) они притягиваются внедрившимся врагом и поглощают его на месте, если неподвижны, или устремляются ему навстречу, если подвижны, захватывают его и переваривают, когда это оказывается возможным. В этой реакции и заключается защита организма.
У животных с развитой кровеносной системой фагоциты крови проходят сквозь поры стенок сосудов (диапедез) и устремляются к месту нападения. Все симптомы, сопровождающие это явление защиты и составляющие картину воспаления, — жар, боль, краснота, — не что иное как ее спутники, связанные со сложностью организма; но суть, основная причина воспаления — пищеварительная деятельность фагоцитов, направленная против вредного начала. Воспаление, следовательно, целебная реакция организма.
Это сравнительное изучение, основанное на биологических и экспериментальных началах, выяснило эволюцию воспаления, так же как и тесную связь нормальной биологии с патологической.
Лекции эти составили книгу, напечатанную в 1892 году под названием «Лекции сравнительной патологии воспаления» . В них Илья Ильич излагал основание своего учения о фагоцитах1
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОПЫТЫ НАД ХОЛЕРОЙ
Период острой борьбы за фагоцитную теорию казался законченным, и Илья Ильич стал замышлять новые работы. Выяснив суть воспаления, он хотел разобрать происхождение другого патологического симптома, а именно — лихорадочного состояния. Для этого он предпринял ряд опытов над хладнокровными животными; он впрыскивал крокодилам и змеям различные микробы в надежде вызвать этим повышение их температуры, но опыты эти не увенчались успехом.
Между тем в 1892 году во Франции появилась холера. В то время специфическая роль холерного вибриона не была еще вполне установлена. По разным данным можно было думать, что вибрион этот не причина холеры, а лишь вторичное явление при ней. Наблюдения Петтенкофера относительно местностей, где, несмотря на присутствие вибрионов в воде, холера не развивается, и опыты этого ученого над самим собой (он пил холерные культуры и не заболел) говорили как будто бы против специфичности вибриона. Многие же другие данные были в пользу последней. Для окончательного решения этого вопроса Илья Ильич поехал в холерный очаг в Бретании, с целью запастись там свежим материалом. Добыв его, он стал всячески пробовать вызвать холеру у различных видов животных, но безуспешно. Не найдя средства выяснить вопрос на животных, он решил сделать опыт над самим собой и выпил холерную культуру. К счастью, это вовсе не вызвало у него заболевания, а только возбудило сомнение в специфичности вибриона. Ввиду этого отрицательного результата, он согласился повторить опыт над своим помощником Латапи и вновь получил такой же результат. Это подало ему мысль, что, быть может, вибрион в культурах вне организма ослабевает и служит вакциной против свежего ядовитого микроба. Тогда уже совершенно спокойно согласился он сделать опыт над другим молодым человеком (Жюпиль), предложившим свои услуги, и дал ему выпить очень старую культуру. Каково же было его изумление и отчаяние, когда у того появились несомненные симптомы болезни. Призванный врач, хорошо знакомый с клинической картиной холеры, объявил, что болезнь крайне опасна ввиду ее тяжелых нервных проявлений. Илья Ильич в смертельной тревоге не чувствовал в себе силы пережить фатального исхода. Больной, к счастью, выздоровел; этот трагический опыт доказал несомненную специфичность холерного вибриона. Непостоянство действия его, однако, указывало на то, что в некоторых случаях существуют условия, мешающие развитию болезни. Размышляя об этом, Илья Ильич предположил, что условия эти могут заключаться во влиянии различных микробов кишечной флоры. Для упрощения задачи он начал с опытов вне организма. Ему вполне удалось доказать, что некоторые микробы, посеянные совместно с холерными вибрионами, содействуют их развитию, а другие мешают ему. Однако аналогичные опыты на животных не давали определенных и постоянных результатов: совместное заражение холерными вибрионами со «способствующими» им микробами не вызывало заболевания. Вероятно, сложность кишечной флоры должна была играть трудно выяснимую роль в этих опытах. Однако Илья Ильич все еще не покидал мысли о возможности предохранять против холеры, если не «мешающими» микробами, то ослабленными вибрионами, тем более, что работавший в его лаборатории доктор Санарелли нашел целый ряд холероподобных микробов вне всякой холерной эпидемии. Один из них был найден именно в Версале, где никогда не бывает холеры. Илья Ильич предположил, что этот или иной какой-нибудь холероподобный микроб и служит вакциной в иммунных местностях. В этом можно было убедиться только путем опыта. Когда он в первый раз сам пил холерную культуру, то еще вполне допускал рискованность этого опыта. Но у него тогда возникло такое неудержимое стремление решить поставленный вопрос, что никакие посторонние соображения, ни чувства не могли остановить его. Этот «психоз» , как он говорил впоследствии, повторился и теперь, несмотря на весь ужас пережитого: он опять решился сделать опыт на людях. Правда, на этот раз он имел дело не с холерой, а только с холероподобными микробами, которые считал вполне безвредными благодаря их нахождению в воде такой местности, где не бывает холеры. Итак, он сам и несколько других лиц поглотили холероподобные микробы версальской воды. Против всякого ожидания один из них, неизлечимый эпилептик, проявил признаки холеры. Он выздоровел; однако в скором времени умер от невыясненной причины. Илья Ильич говорил себе, что, быть может, холерное заболевание играло какую-нибудь роль в этой смерти, и потому решил раз навсегда больше не делать никаких опытов на людях.
Как объяснить неожиданный результат этого опыта? Илья Ильич полагал, что в кишечном канале заболевшего субъекта были какие-нибудь «способствующие» микробы, усилившие ядовитые свойства слабого и самого по себе безвредного версальского холероподобного вибриона. Это в то же время указывало бы на влияние известных кишечных микробов при возникновении болезней; это также указывало бы на изменчивость свойств микробов в связи с различными условиями их жизни в общении с другими микробами.
Так как задачи эти не могли быть решены иначе как путем опытов, то Илья Ильич вновь деятельно принялся изыскивать средство вызвать холеру у животных. После многочисленных неудач и трудностей у него возникла мысль обратиться к новорожденным животным, у которых еще не существует кишечной флоры, могущей мешать развитию введенных холерных вибрионов. Для опытов он избрал сосунов кроликов, которым давал пить молоко, смешивая его с холерными вибрионами и с микробами, «способствующими» им. Этим путем ему, наконец, удалось вызвать у сосунов типичную холеру. Отныне можно было делать опыты на животных. Однако многочисленные опыты предохранительных мер против холеры при посредстве влияния различных микробов все же не давали достаточно определенных результатов, чтобы позволить применение этого способа к человеку. Разнообразные перекрестные влияния многочисленных кишечных микробов, непостоянство их видов даже у одного и того же субъекта крайне усложняет и затрудняет решение задачи.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВНЕКЛЕТОЧНОЕ РАЗРУШЕНИЕ МИКРОБОВ. РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА ПРОТИВ ЯДОВ И КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Не успел Илья Ильич успокоиться от всех треволнений по поводу холерных опытов и приняться за дальнейшую разработку вопроса, как в 1894 году появилась статья известного немецкого ученого Пфейффера, в которой он приводил новые факты в пользу внеклеточного разрушения микробов.
Изучая влияние на них сыворотки крови в самом организме, а не вне его, как делали его предшественники, он нашел, что если впрыснуть холерные вибрионы в брюшную полость предохраненной против холеры морской свинки, то уже через несколько минут они превращаются в неподвижные, большей частью мертвые зерна. Это зернистое перерождение происходит вне фагоцитов, следовательно помимо них, говорил Пфейффер.
Илья Ильич тотчас повторил его опыты и удостоверился в их фактической точности. Ввиду сложности биологических явлений, он вполне допускал возможность существования и других способов самозащиты организма наряду с фагоцитозом. Но новый факт так противоречил всем его прежним наблюдениям, был так исключителен, что Илья Ильич все же предполагал ошибку в интерпретации Пфейффера. Ошибку эту необходимо было выяснить.
Под влиянием крайнего мозгового напряжения он проводил бессонные ночи, изыскивая постановку нового, доказательного опыта, который объяснил бы «пфейфферовский феномен» . Волнение его усиливалось тем, что вскоре он должен был принять участие в международном съезде в Будапеште, на котором хотел представить сводку своих новых исследований, и боялся не успеть сделать всех необходимых опытов, чтобы обставить, как хотел бы, свои возражения. Тем не менее на этом съезде общее впечатление было явно в пользу фагоцитной теории. Ру в следующих картинных выражениях вспоминал об этом1: «До сих пор я так и вижу вас на будапештском конгрессе 1894 года, возражающим вашим противникам; лицо горит, глаза сверкают, волосы спутались; вы походили на демона науки; но ваши слова, ваши неопровержимые доводы вызывали рукоплескания аудитории. Новые факты, сначала казавшиеся в противоречии с фагоцитной теорией, вскоре приходили в стройное сочетание с нею. Она оказалась достаточно широкой, чтобы примирить сторонников гуморальной теории с защитниками клеточной».
Вот как объяснил Илья Ильич кажущееся противоречие пфейфферовского явления со своей теорией. Рядом опытов он показал, что внеклеточное разрушение холерных вибрионов зависит вовсе не от химического свойства жидкой части серума, а от шока, который при впрыскивании в брюшную полость разрушает всегда находящиеся в ней лейкоциты; при этом в перитонеальную (брюшную) жидкость высвобождаются переваривающие соки этих лейкоцитов — цитазы. Под их-то влиянием вибрионы претерпевают зернистое перерождение Пфейффера и погибают. Если же помощью различных приемов устранить разрушение фагоцитов (т. е. фаголиз), никакого пфейфферовского явления не происходит: фагоциты захватывают тогда холерных фибрионов и переваривают их внутри себя. Илья Ильич подтвердил отсутствие бактерицидной способности соков организма еще следующими опытами.
Если предохраненному против холеры кролику впрыснуть холерные вибрионы в подкожную клетчатку, в переднюю камеру глаза или в искусственно вызванный отек, где вообще отсутствуют фагоциты, то не произойдет никакого внеклеточного разрушения холерных вибрионов; если же в эти области предварительно ввести экссудат, заключающий поврежденные лейкоциты, то высвободившиеся из последних пищеварительные соки — цитазы — разрушат холерные вибрионы вне клеток. Те же результаты получил Илья Ильич и вне организма.
Все эти опыты окончательно доказали, что внеклеточное разрушение холерных вибрионов при пфейфферовском явлении зависит исключительно все же от цитаз, высвободившихся из поврежденных лейкоцитов в окружающую жидкость, а вовсе не от действия этой жидкости самой по себе.
Таким образом, и на этот раз фагоцитная теория вышла невредимой из нового испытания.
Доказав окончательно, что с микробами организм борется посредством фагоцитов, Илья Ильич хотел убедиться, борется ли он тем же способом и с их ядами, т. е. с токсинами.
Вопрос этот оказался очень трудным и потребовал нескольких лет для своего изучения. В то время как все фазы борьбы лейкоцитов с микробами легко воочию проследить внутри организма, — невидимые яды их не поддаются такому непосредственному наблюдению, и поэтому приходилось искать окольных путей.
Верный своему обычному методу — исходить от простейшего выражения явления, Илья Ильич обратился сначала к низшим существам. Уже одноклеточные, как миксомицеты, амебы и инфузории, — иногда естественно невосприимчивы к различным ядам. Но у них можно и искусственно вызвать такой иммунитет посредством постепенного приучения к ядам, которые без постепенного приучения сразу убили бы их. Явления эти, наблюдаемые у одноклеточных, по одному этому, несомненно, связаны с воздействием самой клетки.
Вот почему Илья Ильич уже a priori предположил, что фагоциты, — эти примитивные, аналогичные простейшим клетки высших организмов, — должны также реагировать против ядов. И действительно он мог убедиться в этом, найдя, что число ' лейкоцитов кролика значительно уменьшается в крови под влиянием смертельных доз мышьяка и, наоборот, очень увеличивается от малых доз этого яда, к которому можно постепенно приучить животное.
Ученик Ильи Ильича, доктор Безредка, сделал очень интересные исследования, вполне подтвердившие роль фагоцитов в борьбе с минеральными ядами, а именно с солями мышьяка. Для того, чтобы легче было обнаружить их в организме, он избрал соль, мало растворимую и окрашенную в оранжевый цвет (треххлористый мышьяк). Впрыскивая несмертельные дозы в брюшную полость, он вызывал в ней экссудат, в котором все оранжевые зерна соли через некоторое время оказывались заключенными почти исключительно в фагоцитах — макрофагах (лейкоциты с крупным, цельным ядром); соль постепенно переваривалась в них и, наконец, исчезала; кролики при этом оставались живы и здоровы. Наоборот, они умирали, когда те же дозы мышьяковистой соли были защищены от лейкоцитов фильтрующей пленкой бузины, или же когда фагоциты были отвлечены предварительным впрыскиванием безразличного вещества. Это доказывало несомненную роль фагоцитов в уничтожении минеральных ядов.
Что касается микробных ядов — токсинов, то Ру и Борель наблюдали, что токсин столбняка (яд для нервных клеток), впрыснутый непосредственно в мозг кролика, вызывает столбняк и убивает животное, в то время как впрыснутый под кожу он или вовсе не действует или производит лишь слабое и преходящее заболевание. Это объясняется тем, что яд разрушается фагоцитами раньше, чем успеет достичь нервных клеток.
Изучив разрушение ядов и токсинов, Илья Ильич хотел выяснить происхождение противоядий организма — антитоксинов, впервые открытых Берингом. Вопрос этот оказался еще более трудным.
Ввиду того, что самые первобытные существа уже борются между собой, Илья Ильич задался вопросом, не вырабатывают ли микробы для этой борьбы противоядий – антитоксинов — против враждебных им организмов? Он потратил много времени на эту задачу, но получил отрицательные результаты и пришел к выводу, что антитоксины должны вырабатываться самим организмом. Способность эта, по-видимому, приобретена позднее фагоцитарной, потому что вовсе не наблюдается ни у растений, ни у низших животных. Илье Ильичу удалось обнаружить антитоксичность соков, лишь начиная с высших холоднокровных позвоночных (и то при искусственных условиях). Прививая крокодилу несмертельные дозы яда и постепенно приучая его к нему, он нашел, что кровь и соки фагоцитарной системы (т. е. органов, в которых образуется кровь и, в частности, лейкоциты) через некоторое время становятся антитоксичными. Следовательно, именно в фагоцитарной системе образуются антитоксины, т. е. противоядия к введенному яду. Опыты с различными высшими животными также подтвердили локализацию антитоксинов исключительно в соках, содержащих фагоциты. Поэтому Илья Ильич вывел, что именно последние вырабатывают эти антитоксины, как конечный результат переваривания токсинов. Так как токсины поглощаются главным образом макрофагами, то он заключил, что среди фагоцитов именно они, переваривая яды, этим путем вырабатывают специфические противоядия. Но сложность и трудность вещественного доказательства этого не допускали окончательного решения вопроса, и Илья Ильич высказал свое мнение лишь в качестве крайне вероятной гипотезы. В пользу ее говорили различные наблюдения относительно токсинов и антитоксинов.
Так, в сотрудничестве с Ру и Салимбени Илья Ильич нашел, что холерные вибрионы вредят организму и убивают его посредством растворимых ядов, малые дозы которых, однако, вакцинируют против больших; кровь предохраненного таким образом животного становится антитоксичною. Наоборот, вакцинация микробами предохраняет лишь от микробов, а не от их ядов, и кровь в этом случае не приобретает антитоксических свойств. Это объясняется тем, что не одни и те же клетки переваривают микробов и токсины: вибрионы уничтожаются микрофагами, в то время как яды их разрушаются макрофагами, вырабатывающими, вероятно, как продукт этого разрушения (посредством пищеварения) — соответствующие противотела, т. е. холерные антитоксины. Наоборот, в тех случаях, когда микробы поглощаются макрофагами, как, например, при чуме, кровь приобретает антитоксические свойства даже при впрыскивании одних микробов. То же наблюдал Илья Ильич относительно кайманов, у которых макрофаги переваривают микробов.
В этих примерах микробы и их яды (токсины) перевариваются одними и теми же клетками, вырабатывающими поэтому одновременно противотела и против микробов и против их ядов. Эти факты подтверждали законность предположения происхождения антитоксинов от макрофагов.
На московском конгрессе 1897 года Илья Ильич сделал сообщение о своих исследованиях фагоцитной реакции против токсинов и доклад о современном научном положении чумного вопроса. Он закончил свою речь защитой науки, так часто обвиняемой в том, что она ничего не сделала для разрешения таких существенных задач, как вопросы нравственности. Установлением законов борьбы за существование наука скорее как бы подтверждала право сильного.
Илья Ильич возражал против этого, что, разоблачая законы природы, наука, наоборот, пользуется ими, поскольку они служат благу человечества, и старается в то же время противодействовать им в тех случаях, где они жестоки. Конкретный пример этому — борьба науки с чумой и болезнями вообще: здесь медицинская наука противодействует жестокости «естественного подбора» .
Он закончил свою речь следующими словами: «Точно так, как для удовлетворения своих эстетических чувств человек идет наперекор законам природы и создает бесплодные и хрупкие породы цветов, так и для удовлетворения своих нравственных чувств он без колебаний охраняет слабых наперекор законам естественного подбора. Наука не изменяла своей миссии и великодушным традициям. Дадим же ей беспрепятственно идти вперед» .
Вот что писал мне по поводу доклада Ильи Ильича на съезде товарищ его, французский ученый Нокар, бывший с ним в Москве: «Не верьте ни слову из того, что говорит вам Илья Ильич. Он имел безумный успех. Несколько свободная форма его сообщений была одним из условий к этому, до такой степени чувствовалась убежденность его увлечения. Он был подобен Сибилле на треножнике».
В те времена в лаборатории Ильи Ильича работал очень талантливый молодой бельгийский ученый Бордэ. Он сделал ряд крайне важных исследований, проложивших новые пути. Между прочим он показал, что внеклеточное пищеварение может быть обнаружено относительно клеточных элементов. Если впрыснуть в организм одного животного красные шарики другого вида, то они растворятся и притом не внутри фагоцитов, а в окружающей их жидкости. Илья Ильич стал изучать это явление и доказал, что оно объясняется точно так же, как и „пфейфферовский феномен» при введении вибрионов в брюшную полость. В опытах Бордэ предсуществующие лейкоциты также разрушались под влиянием шока при впрыскивании. Если же устранить это повреждение фагоцитов, то они захватывают и поедают кровяные шарики, как и в случае холерных вибрионов.
Эти наблюдения привели Илью Ильича к подробному изучению разрушения фагоцитами клеточных элементов. Он уже раньше наблюдал, что в то время как с микробами вообще борются мелкие, многоядерные лейкоциты, микрофаги, — против клеточных элементов главным образом выступают более крупные, одноядерные лейкоциты, макрофаги, те же, которые уничтожают и токсины.
Макрофаги находятся не только в крови, но входят в состав различных органов (печени, селезенки, почек и т. д. ). Они захватывают живые клетки, присасываясь к ним своими подвижными протоплазматическими отростками, которыми постепенно втягивают добычу внутрь себя. Макрофаги захватывают не только посторонние клеточные элементы, введенные в организм (кровяные шарики, семенные тела и т. д.), но и всякие почему-нибудь ослабевшие клетки самого организма. Ослабление это может зависеть от разных причин. Иногда оно сопровождает нормальные явления, как, например, превращения насекомых и некоторых позвоночных (головастика в лягушку, тритона); но гораздо чаще это ослабление патологическое, как при атрофиях, отравлениях микробными ядами и т. д.
Во всех этих случаях ослабление клеток организма ведет к их поеданию макрофагами, обусловливая атрофии не только отдельных клеток, но даже целых органов.
Эти наблюдения навели Илью Ильича на предположение, что механизм старческих атрофий сводится к тому же процессу, и мысли его все более и более стали направляться на вопрос о причинах старческих явлений вообще. Но прежде чем перейти на новые рельсы, он хотел завершить свои наблюдения явлений фагоцитоза, которыми занимался уже более 20 лет. Он усиленно принялся пополнять свои исследования о невосприимчивости организма, чтобы подвести итоги своим многолетним наблюдениям и окончательно формулировать теорию иммунитета.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ИММУНИТЕТ (НЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ)
Предупреждение болезней было всегда одной из главнейших забот человека, и потому вопрос о невосприимчивости веками занимал умы. Дикарями было уже замечено, что невосприимчивость к змеиному яду может наступать как после легкого укуса змеи, так и благодаря прикладыванию к пораженной коже снадобья, в которое входит змеиный яд. В народе было также давно известно, что соприкосновение поцарапанных рук с оспенной пустулой коровы предохраняет от человеческой оспы. На этих данных основал Дженнер свой метод противооспенных прививок. Последние, в свою очередь, внушили Пастеру попытку противомикробных прививок. Убедившись в том, что прежде очень вирулентные культуры куриной холеры стали с возрастом безвредными, он спросил себя: не предохранительны ли они, и ему удалось экспериментально доказать это. В свою очередь это привело его к принципу ослабления вируса и к предохранительным прививкам ослабленными микробами. Тогда возник для него вопрос о механизме невосприимчивости.
Первые теории, высказанные на этот счет, были чисто гуморальные. Пастер предполагал, что невосприимчивость зависит от поглощения предохраняющими микробами некоторых питательных веществ из соков организма. Он думал, что отсутствие этих веществ, недостаточно быстро восстановляемых, мешает развитию микробов, позднее попадающих в организм. Шово, наоборот, думал, что невосприимчивость зависит от присутствия в соках неких веществ, мешающих развитию микробов.
Теории эти могли быть применимы в известных частных случаях, но не могли дать общего объяснения явлению. Другие теории1 хотя и приписывали активную роль самому организму, но также не могли выяснить механизма невосприимчивости вообще. Это зависело от того, что в науке того времени не хватало двух существенных элементов знания, а именно: понятия об изменениях, претерпеваемых организмом во время иммунизации, и сведений о судьбе микробов в невосприимчивом организме.
Хотя наблюдали исчезновение микробов внутри выздоравливающего или невосприимчивого животного1, хотя видели воспалительную реакцию организма во время иммунизации2, хотя давно уже находили микробов, заключенными внутри белых гнойных кровяных шариков3, — однако этим фактам давали или неверное истолкование, или не могли установить причинной связи между всеми ими, потому что наблюдали их исключительно в сложном организме высших животных. Менее легко поддающиеся контролю гуморальные теории казались более общими, и поэтому их легче принимали.
Таково было положение вопроса об иммунитете, когда Илья Ильич в качестве натуралиста занялся им. Жизнь одноклеточных существ и низших многоклеточных во всей их простоте была хорошо ему известна; он знал их способ защиты путем поглощения и внутриклеточного пищеварения. Близкое знакомство с этими явлениями, легко наблюдаемыми в простой клетке, позволяло ему легче разобраться в сложном организме высших существ. Поэтому ему удалось открыть причинную связь, существующую между разными факторами, которые были уже известны раньше различным ученым. Он показал, что невосприимчивость становится возможной именно благодаря совокупности этих факторов, т. е. воспаления, поглощения клетками живых и вирулентных микробов и их уничтожения путем внутриклеточного пищеварения. Он показал, что как в естественном, так и в искусственном иммунитете имеется «один лишь постоянный элемент, а именно — фагоцитоз» . Распространение и важная роль этого фактора, присущего всему животному царству, доказывали основательность и общее значение фагоцитарного учения иммунитета.
В 1900 году Илья Ильич представил парижскому международному конгрессу полный итог своих исследований по этому вопросу и дал последнее сражение своим противникам. Затем, убежденный в прочности своих выводов, он приступил к редакции сочинения «Об иммунитете в заразных болезнях» . В нем, как в могучем аккорде, подводил он результаты своих исследований за период около двадцати лет; в нем он устанавливал и окончательно формулировал свое учение об иммунитете, основанное на сравнительном наблюдении механизма этого явления и его эволюции на всех ступенях животного царства; в нем он рассказывал пережитую борьбу, разбирал возражения, сделанные его учению; излагал теории иммунитета других ученых и давал общий очерк современного положения вопроса. Сочинение это — живая картина продолжительной и существенной части научной деятельности Ильи Ильича.
Вопрос иммунитета имеет такое большое значение, механизм этого явления и физиология внутриклеточного пищеварения так сложны, что считаю полезным резюмировать здесь изложенное в книге Ильи Ильича.
Читатель, не желающий углубляться в этот вопрос, может пропустить конец главы без большого ущерба для понимания последующего.
Болезни распространены на всех ступенях жизни. Большинства животных и растений не существовало бы, не будь у них врожденной или естественно приобретенной невосприимчивости. У одноклеточных она, повидимому, очень распространена по отношению к заразным болезням, так как они почти вовсе не наблюдаются у них. Это объясняется тем, что тело простейших состоит почти исключительно из одной протоплазмы, переваривающей пищу; поглощенные микробы сразу попадают в пагубную для них среду, где уничтожаются подобно пищевым веществам. Если микробы оказываются неудобоваримыми, то тотчас выбрасываются одноклеточным организмом и поэтому, в большинстве случаев, безвредны для него.
Эта невосприимчивость одноклеточных ко многим микробам и их ядам зависит не от одной интенсивности пищеварительной способности простейших, но также и от крайней их чувствительности при выборе пищи. Благодаря этой протоплазматической чувствительности, называемой химиотаксисом, — простейшие привлекаются некоторыми микробами и веществами (положительный химиотаксис) и отталкиваются другими (отрицательный химиотаксис). Таким образом, многие ресничные инфузории избирают в пищу одних бактерий и, наоборот, отвергают трупы инфузорий и т. д.
Итак, в естественном иммунитете одноклеточных уже наблюдаются два ясно выраженных существенных элемента: чувствительность и внутриклеточное пищеварение. До сих пор еще не было сделано исследований относительно того, возможно ли вызвать у простейших искусственный иммунитет против болезнетворных микробов и их ядов. Однако одноклеточные, мало чувствительные к микробным ядам, наоборот, очень чувствительны ко многим химическим веществам, которых не имеют случая поглощать в нормальной жизни. Опыты показали, что у одноклеточных можно искусственно вызывать иммунитет к различным химическим веществам постепенным приучением к ним. Для этого в среду, в которой простейшие живут, прибавляют сначала очень разбавленные растворы этих веществ, а затем постепенно концентрируют их. Мало-помалу отрицательный химиотаксис живой клетки обращается в положительный, и одноклеточный организм в конце концов приобретает способность поглощать и переваривать яд, ставший таким образом как бы пищевым веществом.
Итак, приучение есть существенный элемент искусственного иммунитета. Оно должно играть ту же роль и в естественной невосприимчивости: одноклеточное существо, случайно поглотившее слабых, легкопереваримых микробов или перенесшее вызванную ими болезнь, приучается к уже более сильному яду того же рода и таким образом приобретает к нему естественную невосприимчивость. Приучение, приспособление низших существ связано, следовательно, с их чувствительностью и пищеварением.
Итак: чувствительность, приучение и внутриклеточное пищеварение — вот основные элементы механизма невосприимчивости простейших. Так как они состоят из одной клетки, то эта невосприимчивость бесспорно может относиться лишь к разряду чисто клеточных, целлюлярных явлений.
Придя к этому заключению, Ильи Ильич сказал себе, что у многоклеточных животных должен быть подобный же механизм иммунитета фагоцитов, этих первобытных клеток, аналогичных простейшим существам. Целый ряд наблюдений подтвердил это, так же как и факт, что иммунитет высших животных связан именно с интенсивным фагоцитозом.
И действительно, поднимаясь по лестнице существ и изучая их естественный и искусственный иммунитет, Илья Ильич констатировал, что у всех их сущность невосприимчивости, частью скрытая сложностью организма, сводится, однако, к приучению фагоцитов к вредным началам. Поэтому механизм иммунитета простейших действительно может служить прототипом его и у многоклеточных. Приучение и невосприимчивость — явления общего порядка, так как обнаруживаются точно так же у растений, как и у животных.
Растения также вынуждены защищаться против всяких болезней. Низшие растения — миксомицеты — существа, пограничные между растительным и животным царствами, обладают амебоидной стадией развития, когда являются простым скоплением бесформенной протоплазмы. Во время этого периода своей жизни миксомицеты относятся к вредным началам точно так же, как одноклеточные, и, как они, приобретают невосприимчивость путем прогрессивного приучения.
Вследствие иного строения у высших растений и механизм защиты другой. Почти у всех многоклеточных растений клетки неподвижны вследствие того, что одеты твердой оболочкой. Они не могут сквозь нее поглощать добычу и защищаются образованием плотных оболочек — зарубцеванье — и выделением различных защитительных соков. Некоторые из последних отвердевают на воздухе (древесный клей), образуя род естественной перевязки; другие (смолы) антисептичны. Это выделение клеточных соков у растений служит им могучим средством защиты. Но и оно тоже зависит от чрезвычайной чувствительности протоплазмы, растительных клеток, реагирующих против возбуждения защитительным выделением. Подобно одноклеточным существам растения могут, естественным или искусственным путем, приучаться к вредным началам, приобретать к ним естественный или искусственней иммунитет
Что касается животных, то Илья Ильич уже раньше доказал, что их способом защиты против болезнетворных начал служит фагоцитоз, т. е. внутриклеточное пищеварение. Фагоцитоз всегда сопровождает иммунитет, служа необходимым его элементом, точно так же как и у одноклеточных существ.
Роль фагоцитов выполняют различные клетки организма высших животных; клетки эти находятся как в крови, в соках, так и в тканях и органах. Фагоциты могут быть подвижными (белые кровяные шарики — лейкоциты) или неподвижными (клетки тканей). В обоих случаях они распадаются на две главные группы: микрофагов и макрофагов. Обе эти категории клеток способны переваривать микробов; однако главным образом это выполняют микрофаги, в то время как макрофаги преимущественно переваривают организованные элементы животного происхождения, а также и яды. Поэтому микрофаги, так сказать, вегетарианцы, макрофаги же скорее плотоядны.
В чем же заключается механизм фагоцитарного пищеварения? Оно производится пищеварительными соками, ферментами, подобными сокам наших собственных органов пищеварения.
«В обоих случаях мы имеем дело с действием диастазов — растворимых ферментов, вырабатываемых живыми элементами. Только при фагоцитарном пищеварении диастазы переваривают внутри клеток, в то время как при внеклеточном пищеварении процесс этот происходит в полости желудочно-кишечного канала».
Внутриклеточное пищеварение лишь постепенно уступило место перевариванию посредством выделяемых соков. У некоторых прозрачных низших беспозвоночных (у плавающих мягкотелых Phylirhoë) наблюдается переходное состояние, связывающее оба способа. У них переваривание начинается в полости пищеварительного канала посредством выделяемых соков, а заканчивается внутри амебоидных клеток в придатках слепой кишки.
У высших животных пищеварение совершается несколькими пищеварительными ферментами: желудочным соком, пепсином, трипсином, энтерокиназой и т. д. Соки эти выделяются разнообразными органами: желудком, панкреатической железой, кишками. Фагоциты точно также вырабатывают несколько пищеварительных ферментов. Главный из них принадлежит к категории трипсинов. Илья Ильич обозначает его под именем цитаза1.
Морфологическому различию между фагоцитами соответствует различие в свойствах их цитаз, приспособленных к перевариванию тех или других пищевых веществ.
Цитазы2 предсуществуют внутри клеток и высвобождаются в соки организма только при повреждении фагоцитов — т. е. при фаголизме (как, например, в пфейфферовском феномене). Фермент этот не выдерживает температуры выше 55—58°. Он играет главную роль при естественном иммунитете, переваривая болезнетворные начала, подобно пище, внутри фагоцитов.
В искусственном же иммунитете играют роль еще и другие растворимые ферменты, возникающие в результате вакцинации. Главный из них фиксатор, как обозначает его Илья Ильич3. Он менее чувствителен к высокой температуре, чем цитаза, и выносит 65—68°. Сам по себе он не способен убивать и переваривать микробы и клеточные элементы, но, внедряясь в них, фиксируясь на них, он служит как бы протравой и делает их чувствительными к действию фагоцитных цитаз.
Фиксатор сравним с энтерокиназой, особым ферментом тонких кишек высших животных. Энтерокиназа также сама по себе не переваривает пищу, но в высшей степени способствует пищеварительной деятельности панкреатических ферментов. Она также фиксируется в виде протравы на фибрине, который вследствие этого жадно впитывает панкреатический сок — трипсин, переваривающий его.
Итак, энтерокиназа и фиксатор действительно обладают одинаковыми основными свойствами. Аналогия между ними подтверждает полное соответствие между процессом разрушения вредных начал фагоцитами и настоящим пищеварением.
Фиксаторы вырабатываются фагоцитами в результате переваривания вакцинальных веществ. Этим объясняется то, что, образуясь насчет определенного вакцинального, предохранительного вещества, фиксатор обладает специфичностью, соответствующей именно этому веществу. Наоборот, цитаза, предсуществующая в фагоцитах, никогда не обладает специфичностью.
Искусственная иммунизация большею частью вызывает образование такого значительного количества фиксаторов, что фагоциты не могут вместить их всех внутри себя, вследствие чего выделяют часть их в окружающие соки, т. е. в кровяную плазму или сыворотку. Вот почему при последующем введении в организм вирулентных начал (микробов или организованных элементов, против которых была сделана вакцинация), они, попав в соки, сразу встречают в них фиксаторов, протравляющих их, что делает их чувствительными к влиянию внутриклеточных фагоцитарных цитаз. Этот механизм объясняет и специфичность серума предохраненного организма.
Количество специфических фиксаторов в соках не всегда одинаково, так как зависит от степени перепроизводства этих фиксаторов фагоцитами. Соответственно этому и сыворотки более или менее предохранительны; если же производство фиксаторов недостаточно велико для выделения их из фагоцитов в окружающие соки, то последние вовсе не обладают предохранительной способностью. Действительно, сыворотки предохранительны лишь в той мере, в какой вносят в организм достаточное количество фиксаторов для протравления (сенсибилизации) тех соответствующих вредных начал, которые будут затем введены в организм.
Перепроизводство противотел, т. е. фиксаторов или антитоксинов, до известной степени соответствует количеству и повторности предохранительных впрыскиваний (вакцинации). Вот почему при искусственном иммунитете сыворотки вообще предохранительны, будучи лишь редко предохранительными при естественном. По мере вакцинации клетки приучаются переваривать микробы или организованные элементы и, в результате этого переваривания, вырабатывают возрастающее количество фиксаторов. При естественных же условиях вредные начала обыкновенно не проникают в организм в массовых или повторных дозах, поэтому переваривание фагоцитами при этих условиях не вызывает такого обильного производства фиксаторов, при котором они не могли бы вмещаться внутри фагоцитов и выделялись бы из них в окружающие соки в достаточном количестве, чтобы сделать их предохранительными. Казалось бы, что иммунитет к болезнетворным микробам должен идти рука об руку с иммунитетом к их токсинам. В действительности это не всегда так: часто организм, ставший невосприимчивым к известным микробам, остается крайне чувствительным к их ядовитым продуктам, так что противомикробная и противотоксичная невосприимчивость большею
частью не совпадают.
Чтобы вызвать антитоксическую невосприимчивость, приходится прибегать к прививкам токсинов и растворимых ядов. Естественный иммунитет приобретается главным образом к микробам, а не к токсинам, потому что в природе, при естественных условиях, организму преимущественно угрожают первые, а не последние.
Фагоциты, уничтожая микробов, тем самым уничтожают их яды. Несмотря на это, если впрыснуть животному яды тех же микробов, оно может оказаться крайне чувствительным к этим ядам.
Антитоксический иммунитет, по всей вероятности, приобретается благодаря внутриклеточному пищеварению макрофагов. Гипотеза эта подтверждается опытами, о которых шла речь в предшествующей главе. Во время антитоксической вакцинации макрофаги, по-видимому, вырабатывают на счет ослабленных предохранительных токсинов более или менее значительные количества антитоксинов, противоядий, имеющих большое сходство с фиксаторами. Как и они — антитоксины специфичны, как и они — производятся в большом количестве и выделяются в соки, которые вследствие этого становятся антитоксичными; наконец они также мало чувствительны к высокой температуре. Вот почему, несмотря на невозможность пока привести прямое доказательство, крайне вероятно, что происхождение антитоксинов аналогично происхождению фиксаторов, т. е. что они также вырабатываются клеточными элементами — макрофагами, поглощающими токсины и растворимые яды.
Этот вывод подтверждается и тем, что одноклеточные существа способны приобретать искусственный иммунитет к токсинам; у одноклеточных не может быть и речи о других элементах, кроме самой клетки.
Фагоциты, по-видимому, вырабатывают еще многие другие растворимые ферменты, соответственно поглощенным ими веществам. Мы действительно знаем, что сыворотка предохраненного организма обладает различными новыми специфическими свойствами, каковы: агглютинирующая способность, осаждающая (преципитирующая) и т. д.
Свойства соков могут сохраняться более или менее продолжительно, смотря по времени, через которое заключенные в них вещества, выработанные фагоцитами, выделятся из организма. Итак, все эти свойства соков в конце концов зависят от пищеварительной деятельности фагоцитов, продуктами которой они являются. Даже в тех случаях, где мы не имеем еще возможности наглядно доказать это, это тем не менее явствует по аналогии — из многочисленных косвенных опытов. Таким образом, по мнению Ильи Ильича, «иммунитет в заразных болезнях сводится к целлюлярной физиологии, к резорбированию вредных начал посредством внутриклеточного пищеварения. Последнее в конце концов сводится, точно так же как и пищеварение питательных веществ в желудочно-кишечном канале, к явлениям физико-химического порядка; тем не менее оно — настоящее пищеварение, совершаемое живой клеткой» . Поэтому Илья Ильич думает, что „учение об иммунитете должно войти в главу пищеварения с общей точки зрения»1. Иммунитет против болезней есть лишь одно из проявлений иммунитета в гораздо более широком смысле, но в конце концов всегда основанном на чувствительности протоплазмы живой клетки. Чувствительность нервных клеток распространяет явление это и на психическую область. Нервные клетки также способны приучаться к разнообразным внешним раздражителям и этим сообщают организму психический иммунитет. Всем нам известно, что можно приучиться ко многим резким и тяжелым ощущениям, и, как говорит Илья Ильич, «весьма вероятно, что вся гамма приспособлений, начиная с одноклеточных существ, приучающихся жить в несвойственной им среде, и до культурного человека, привыкающего не верить в людскую справедливость, — все это зиждется на одном и том же основном свойстве живого вещества».
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ИЗУЧЕНИЕ СТАРОСТИ. «ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА». СИФИЛИС. « ЭТЮДЫ ОПТИМИЗМА»
На здоровьи Ильи Ильича отразились многочисленные волнения, связанные с борьбой, которую он вынужден был вести для защиты своего учения, а также целый ряд тяжелых событий в личной жизни.
В 1893 году болезнь и смерть обрушились на нашу семью. Быстро друг за другом умерли моя сестра и брат; я же должна была подвергнуться серьезной операции. Илья Ильич день и ночь неустанно ухаживал за мною с чисто материнской заботливостью и сильно волновался по поводу длинного ряда послеоперационных осложнений. Все это расстроило его здоровье, тем более, что он только что перед тем перенес жестокие нравственные страдания во время холерных опытов, о которых было сказано выше.
В 1894 году в России произошел серьезный сельскохозяйственный кризис, который отразился и на нашем материальном положении, что очень заботило Илью Ильича, дорожившего возможностью работать без томительного помышления об обеспечении жизни посторонней работой.
Осенью 1895 года, после каникул, мы застали Пастера в предсмертной болезни, от которой он вскоре и умер. Вся эта вереница подавляющих событий сильно действовала на Илью Ильича. Опять стали возобновляться его сердечные перебои и бессонницы. Во время каникул мы ездили в горы, но Илья Ильич не любил продолжительных «отдыхов», так как его тревожили прерванные опыты, и он скоро стремился обратно в лабораторию. В 1898 году у него появились болезненные явления со стороны почек и обнаружились небольшие количества белка. Он советовался со знаменитым немецким клиницистом Ноорденом, который, однако, не нашел у него ничего особенного. Тем не менее, это не успокоило Илью Ильича, потому что он продолжал себя плохо чувствовать. Он был мнителен, и мрачные мысли не покидали его.
Уже раньше чисто теоретические соображения относительно старческих атрофий направили его мысли на тему о старости. Теперь размышления его обратились на психологическую сторону этого явления. Разбирая свои ощущения, он приходил к выводу, что у него в 53 года очень сильно развита привязанность к жизни. Это страстное стремление жить при неизбежной эволюции к старости и устрашающей смерти наводило его опять на мысль о дисгармониях человеческой природы. Но теперь во всех этих мрачных размышлениях его поддерживала глубокая уверенность в том, что рациональное знание должно будет устранить эти дисгармонии, и он продолжал работать с непоколебимой энергией.
Против личных болезненных явлений он выработал себе гигиенический режим, основанный на убеждении, что причиной его состояния в частности и старости вообще служит хроническое отравление организма кишечными микробами. Режим его состоял в простом устранении всякой сырой пищи, могущей вводить вредные микробы в кишечник; для борьбы же с ними он стал употреблять простоквашу, кислотворные микробы которой являются полезными конкурентами вредным гнилостным бактериям кишек. Режим этот, действительно, несомненно благоприятно повлиял на его здоровье.
Закончив свою книгу об иммунитете, он счел себя в праве перейти к новым занимавшим его темам о старости и смерти. Первый абрис этих исследований он представил в лекции, которую прочел в 1901 году в Манчестере (Wilde lecture) «О флоре человеческого тела». В этой лекции, анализируя флору человеческого тела, он указывал на хронический вред, приносимый организму постоянным отравлением микробами, заключенными главным образом в толстых кишках. Яды этих микробов действуют на клетки нашего организма, вызывая их постепенное ослабление. Он намечал средства борьбы против этого зла; с одной стороны, они должны заключаться в возбуждении жизнедеятельности ослабевающих клеток (например, слабыми дозами специфических цитотоксинов), а с другой — в непосредственном действии на кишечные микробы.
«Кишечная флора, говорил он, является главной причиной краткости нашей жизни, угасающей, не достигнув своего естественного предела. Человек сознает эту несправедливость, и наука должна энергично приняться за исправление ее. Она достигнет этого, и надо надеяться, что наступивший новый век увидит решение великой задачи».
Илья Ильич предполагал, что, так как хроническое отравление ядами кишечных микробов ослабляет клетки нашего организма, то оно же может обусловливать и старческие изменения, так явно сводящиеся к слабости тканей.
Так как одним из первых проявлений старости обыкновенно является седение, то он и начал с исследования его механизма. Уже раньше во всех старческих процессах он всегда наблюдал значительную роль фагоцитоза; поэтому он спросил себя, не фагоцитозу ли обязано и уничтожение красящего вещества в виде мелких зерен, заключенного внутри клеток волоса? И действительно, он нашел, что при поседении амебоидные клетки осевого цилиндра волоса приходят в возбужденное состояние и помощью протоплазматических отростков внедряются в периферическую толщу волоса. Здесь они поедают красящие зерна отчасти на месте, частью унося их в корень волос и даже в окружающую соединительную ткань кожи. По мере этого процесса волосы, лишенные своего красящего вещества, пигмента, становятся все бесцветнее, т. е. седеют. Клетки, поедающие пигмент, и названные поэтому Ильей Ильичем пигментофагами или хромофагами, относятся к разряду макрофагов, которые, как было сказано выше, захватывают и поедают все вообще ослабевшие клетки нашего организма. При своих дальнейших исследованиях1 механизма других старческих атрофий Илья Ильич всегда находил аналогичное явление. Точно так же как поседение зависит от поедания пигмента волос пигментофагами, так же сморщивание кожи, слабость мускулов, хрупкость костей и старческое перерождение различных органов сводятся к поеданию ослабевших и плохо защищающихся элементов всех этих тканей более выносливыми и сильными макрофагами. Старость таким образом не что иное, как обобщенная атрофия. Чем же вызвана она? А тем, что микробы, переполняющие толстые кишки, служат постоянным источником медленного отравления нашего организма. Этого факта достаточно, чтобы объяснить одну из главных причин ослабления наших тканей.
Не для всех клеток наступает это ослабление одновременно, ввиду их различной выносливости. Борьба и уничтожение слабого сильным— жестокий закон природы; поэтому более выносливые к ядам макрофаги пользуются ослаблением других клеток и поедают их. Этим вызывается атрофия тканей — старость...
Размышления по поводу старости и биологическое изучение ее Мало-помалу привели Илью Ильича к цельному философскому мировоззрению относительно этого вопроса. Он изложил его в книге „Этюды о природе человека», напечатанной в 1903 году.
В этой книге он рассматривал старость как патологическое явление. Он видел одну из самых крупных дисгармоний человеческой природы в том, что ни старость, ни смерть не сопровождаются естественным инстинктом к ним. Выполнение физиологических отправлений приводит к усталости, пресыщению и потребности отдыха: после активного дня человек чувствует инстинктивную потребность покоя и сна. Между тем в зрелом возрасте он вовсе не ощущает инстинктивного желания состариться, а состарившись, — умереть. Наоборот, крайне редки случаи стремления к смерти, и никто не желает стареть. Это противоречие в ряде других естественных явлений составляет тем большую дисгармонию нашей природы, что играет огромную роль в психической жизни.
Представив в своей книге общий очерк воззрений на человеческую природу, Илья Ильич рассматривал ее с биологической точки зрения, указывал разнообразные ее дисгармонии и приходил к выводу, что она далеко не совершенна. Он усматривал источник ее дисгармоний в унаследовании от животных предков остатков таких органов, которые не только больше не нужны человеку при новых условиях его жизни, но даже становятся причиной многообразного зла. В этом отношении на первом плане стоят толстые кишки, унаследованные человеком от его млекопитающих предков. Этот резервуар пищевых остатков был им очень полезен в борьбе за существование, позволяя не останавливаться во время преследования добычи и бегства от врага. Человек, более животных развитой в умственном отношении, выработал новые условия существования, при которых большая величина толстых кишек стала лишней. Вместо пользы унаследованная излишняя длина толстых кишек стала для него лишь источником медленного, постоянного отравления и причиной преждевременных старости и смерти.
Достигнув еще высшей степени умственного развития, человек почувствовал все зло преждевременной старости и смерти и сосредоточил все усилия на борьбе с ними и на устранении страха перед ними. С этой целью он создал различные религиозные и философские системы, в которых искал успокоения. Последние, однако, не выполнили этой задачи, и человек обратился к науке. Она не могла сразу разрешить его сомнений, устранить всех его страданий. Но, выработав точные методы исследования, она постепенно прогрессировала и устанавливала ряд истин, благодаря которым мало-помалу научилась бороться с разными бедами и отвечала на некоторые из поставленных вопросов. Много уже сделала она в борьбе с болезнями — одной из главных бед людских. Она исследовала их, выясняла причину многих, нашла рациональные средства для излечения некоторых из них: хирургия, антисептика, серотерапия (лечение сыворотками), вакцинация дают уже верные результаты; гигиена и профилактика постепенно разрабатываются и открывают обширные перспективы на будущее. Но самые тяжкие и общие наши беды — старость и смерть — еще крайне мало изучены.
Изложив свои исследования относительно старости, доказав, что она такое же патологическое явление, как и другие болезни, Илья Ильич приходил к выводу, что и с нею, как с ними, возможна борьба.
Главными причинами старости являются: отравление ядами кишечных микробов, инфекционные болезни с сифилисом во главе и хронический алкоголизм. Против всего этого наука, несомненно, будет в состоянии выработать действительные средства.
Усиление сопротивляемости благородных клеток организма, превращение дикой и вредной флоры кишек в культивированную, введение полезных микробов (как, например, молочнокислых), устранение сырой пищи, с которой мы поглощаем всякие микробы, борьба с инфекционными болезнями и алкоголизмом — вот вполне достижимые средства против патологической и преждевременной старости. Став физиологической и безболезненной, как и другие возрасты, она перестанет отталкивать нас. Но как объяснить страх человека перед таким общим и неизбежным явлением, как смерть? Как объяснить отсутствие инстинкта к ней? Илья Ильич предполагает, что такая дисгармония нашей природы зависит от того, что смерть также преждевременна, как и старость, и наступает раньше, чем успеет развиться естественный инстинкт к ней. Это подтверждается тем, что очень старые люди чувствуют насыщение жизнью и испытывают потребность к смерти, подобно тому, как нас клонит ко сну после активного дня. Поэтому мы в праве надеяться, что когда предел жизни отодвинется благодаря успехам науки, то инстинкт смерти будет успевать нормально развиваться и заменит страх перед нею. Смерть, как и старость, сделается физиологической, и самая крупная дисгармония нашей природы будет побеждена. Для достижения такого нормального жизненного цикла — ортобиоза — надо будет изменить весь склад жизни, основать его на рациональных, научных началах. Определение цели повлияет и на установление основ нравственности. Для того, чтобы нормальный цикл жизни мог быть достигнут людьми вообще, — необходимо гораздо большее распространение знания, сознательности, большая солидарность и благоприятные общественные условия. Стремясь исправить свои дисгармонии, человек не сможет больше удовлетворяться одним тем, что дала ему природа.
«Подобно тому, как он изменил природу животных и растений, человек должен будет изменить свою собственную природу для того, чтобы сделать ее гармоничнее».
Как для выработки новой расы животных и растений, так и для изменения человеческой природы, прежде всего надо отдать себе отчет в идеале, к которому следует стремиться, а затем употребить все средства, предоставляемые наукой для его осуществления.
«Если мыслим идеал, способный соединить людей в некоторого рода религию будущего, то он не может быть обоснован иначе, как на научных данных. И если справедливо, как это часто утверждают, что нельзя жить без веры, то последняя не может быть иной, как верой во всемогущество знания».
Этими словами закончил Илья Ильич свою книгу о человеческой природе.
Большая публика и многие критики не поняли внутреннего и общего значения его выводов и обвиняли его в том, что он ставит слишком низменный идеал, в сущности сводящийся к тому, чтобы позднее состариться и подольше пожить. Они не поняли, что устранение дисгармоний природы, угнетающих весь род людской, не только физически, но и нравственно, уже само по себе общее благо!
Они не обратили внимания на то, что для достижения такой цели необходимо изменить культурный и общественный строй, что требует развития многочисленных нравственных добродетелей, внутренней дисциплины и энергии.
Они не поняли высоту и мощь идеала, стремящегося усовершенствовать не только весь строй жизни, но и саму природу человека!
Они не поняли смелости такой борьбы и блага от сознания того, что ум и воля человека в состоянии превратить зло в добро, изменить саму природу согласно поставленному идеалу!
Уверенный в могуществе знания и в том, что „одна наука способна вывести страждущее человечество на верный путь», — Илья Ильич спокойно продолжал работать в намеченном им направлении.
Отвердение артерий — артериосклероз — одно из наиболее характерных проявлений старости; поэтому Илья Ильич хотел выяснить его механизм. Но в то время, когда в старческие явления входят многочисленные, еще не выясненные элементы, — существует болезнь, тоже вызывающая артериосклероз; это — сифилис, который бесспорно зависит от заразного начала. Ввиду такой определенности происхождения Илья Ильич и приступил к изучению этой болезни.
Давно уже пришел он к убеждению, что для исследования тех человеческих болезней, которые не могут быть сообщены обычным лабораторным животным, необходимо для экспериментального изучения прививать их ближайшим к человеку, антропоморфным (человекообразным) обезьянам. Он говорил об этом еще Пастеру, но в те времена институт не обладал нужными средствами.
В 1903 году, на мадридском конгрессе, Илье Ильичу присуждена была премия в 5 000 франков. Он воспользовался ею, чтобы приобрести две первые человекообразные обезьяны: В том же году Ру получил премию Озириса в 100000 франков и предназначил ее для той же цели. Решено было, что они вместе предпримут исследования сифилиса. Затем Морозовы пожертвовали 30000 франков на это дело, а Московское общество дерматологии и сифилидологии — 250 рублей. Совокупность всего этого позволила выполнить задуманный план. Илье Ильичу действительно удалось привить сифилис человекообразным обезьянам. Самым чувствительным к этой болезни оказался шимпанзе, у которого первичные и вторичные явления сифилиса протекают совершенно аналогично человеческим. Менее чувствительные низшие обезьяны все же восприимчивы к сифилису, но в большинстве случаев проявляют одни первичные характерные явления. Возможность быстро вызывать у обезьян тождественные человеческим проявления сифилиса имела громадное значение, так как позволяла ставить безошибочный диагноз во всех сомнительных у человека случаях. Экспериментальное изучение этой болезни на обезьянах дало возможность предпринять на них опыты вакцинации и серотерапии сифилиса. Попытки вакцинации фильтрованным, нагретым сифилитическими вирусом, а также его глицериновыми вытяжками дали отрицательный результат. Однако удалось ослабить сифилитический яд последовательными перевивками (пассажами) через организм низших обезьян (макаков, особенно Масасusrhesus). Но яд этот, хотя и ослабленный для шимпанзе, не служил ему вакциной, не делал его невосприимчивым к активному сифилитическому яду. Тем не менее, так как низшие обезьяны представляют целую гамму ослаблений, то возможно, что среди них найдется еще вакцина.
Попытки добыть антисифилитическую сыворотку уже не от невосприимчивых животных, а от чувствительных к сифилису обезьян хотя и давали в некоторых случаях ободряющие результаты, но не были достаточно постоянными.
В 1905 году немецкий ученый Шаудин открыл микроб сифилиса у человека. Это оказалась бледная, трудно обнаруживаемая спирилла. Благодаря его методу Илья Ильич вскоре нашел тот же микроб и у обезьян, привитых вирусом человеческого сифилиса, что еще подтвердило специфичность бледной спириллы. Микроб этот захватывают не микрофаги, а более неподвижные макрофаги. Он остается у места своего внедрения достаточно долго, и это дало возможность сделать попытку местного предупредительного лечения химическими веществами. После многочисленных проб остановились на местном применении ртутной мази. При втирании ее в кожу вслед за заражением, сделанным даже через поврежденную кожу, животное не заболевает. После ряда вполне убедительных опытов на обезьянах в 1906 году молодой врач Мезоннев с полнейшим успехом применил на себе этот предохранительный метод. Казалось бы, что такой простой, верный и безвредный способ быстро должен войти в употребление; произошло совершенно обратное. Вследствие оппозиции, с одной стороны, и непредусмотрительности самих заинтересованных лиц, с другой, — столь полезное открытие долго оставалось без применения; лишь значительно позднее начало оно успешно распространяться.
Все вышеизложенные результаты были получены благодаря экспериментальному изучению сифилиса; оно, в свою очередь, стало возможным благодаря общей биологической исходной точке зрения, основанной на познании близкого родства между обезьяной и человеком. Изучение сифилиса, до тех пор стоявшее на исключительно клинической почве, таким образом, вошло, наконец, в разряд экспериментальных наук.
Занятия сифилисом были, однако, лишь временным отступлением от главной темы Ильи Ильича. Он вновь вернулся к изучению старости и кишечной флоры. В течение нескольких лет исследовал он роль последней в организме, подтверждая новыми фактами свое предположение о том, что она служит источником отравления наших тканей.
В новом сочинении «Этюды оптимизма» на основании этих наблюдений он значительно развил идеи, изложенные в его книге „Этюды о природе человека», и отвечал в то же время на сделанные ему возражения. В «Этюдах оптимизма» он проследил проявления старости в их последовательности на различных ступенях лестницы живых существ.
Изучение сравнительной долговечности привело его к выводу, что существует несомненная связь между продолжительностью жизни и кишечной флорой. Чем короче кишечник и чем в нем меньше микробов, тем больше относительная долговечность. Одним из примеров этому служит долговечность птиц и летучих мышей. У этих животных, приспособленных к летанию, вес тела должен быть по возможности меньше. Поэтому кишки их часто опоражниваются и, не служа резервуаром пищевых остатков, развиваются очень незначительно, а следовательно, содержат мало микробов. Относительная долговечность летающих животных вообще значительно больше, чем у млекопитающих с их длинными толстыми кишками, переполненными микробами, которые служат постоянным источником медленного отравления.
Рассмотрев вопрос долговечности, Илья Ильич подошел к тайне смерти. Живые существа в таком огромном большинстве случаев умирают от разных болезней и других внешних причин, что невольно возникает вопрос: да существует ли естественная смерть, т. е. такая, которая зависит исключительно от самого организма?
Сравнительный обзор живого мира привел Илью Ильича к следующим выводам:
У низших одноклеточных естественной смерти не существует; умирают они только случайно. Индивидуальная жизнь их очень коротка, но она заканчивается не смертью, а размножением посредством деления, т. е. превращением одной особи в две новые. При этой потере первичной индивидуальности нет трупа.
Между высшими растениями некоторые деревья достигают огромных размеров (драконовое дерево, баобаб, дуб, кипарис), живут веками и умирают вследствие какой-нибудь внешней причины. Организм их не представляет внутренней необходимости естественной смерти. Но жизнь множества других растений, наоборот, кратковременна, при чем естественная смерть их обыкновенно совпадает с созреванием семян. Наблюдали даже, что смерть этих растений можно отодвинуть, мешая их плодоношению. Так, трава, скошенная раньше цветения, остается постоянно свежей, между тем как она высыхает, если дать ей цвести и обсемениться. Так как известно, что плоды и семена часто бывают ядовиты, то Илья Ильич предполагает, что смерть растения может зависеть от самоотравления, связанного с производством ядов, выработанных растением, как способ защиты своих семян. Природа озабочена особью, только — поскольку она служит поддержанию вида; когда роль эта выполнена, значение особи кончено, она может исчезнуть. Аналогичное явление самоотравления наблюдается у низших растений — дрожжей и микробов. Пастер, открывший бациллу молочного брожения, нашел, что организм этот, хотя сам производит молочную кислоту, но гибнет от избытка ее, как и дрожжи от избытка спирта.
Итак, мир растений представляет пример как отсутствия естественной смерти, так и естественную смерть, сводящуюся к самоотравлению организма.
В мире животных точно также существуют примеры естественной смерти, но уже в виде очень редких исключений. Таковыми являются коловратки и поденки. Вся жизнь этих животных сводится к акту оплодотворения, после которого они почти тотчас умирают без всякой внешней причины. В свое краткое существование они вовсе не питаются и даже не имеют развитых ротовых органов, в чем уже заложена внутренняя неизбежность естественной смерти.
У человека так называемая «естественная смерть» наблюдается крайне редко. Она наступает иногда у очень дряхлых стариков в виде спокойного, последнего сна. Сходство ее со сном так поразительно с внешней стороны, что Илья Ильич счел себя в праве высказать следующую гипотезу относительно аналогии их механизма. По теории Прейэра усталость и сон вызваны периодическим самоотравлением продуктами жизнедеятельности организма. Продукты эти разрушаются окислением во время сна; усталость тогда проходит, и наступает пробуждение. По мнению Ильи Ильича, механизм смерти, быть может, также сводится к самоотравлению организма от постоянного накопления ядовитых продуктов в течение всей жизни. Сходство между сном и естественной смертью позволяет также предположить, что подобно тому, как перед сном является инстинктивная потребность отдыха, так и перед естественной смертью человек должен инстинктивно желать умереть. Конкретные примеры из жизни подтверждают это. Так, одна 93-летняя старушка в следующих словах выражала эту мысль своему внуку: «Если ты доживешь до моего возраста, то увидишь, что смерть является такою же потребностью, как и сон».
Библейские патриархи высказывали подобное же ощущение: «И, насытившись жизнью, он уснул вечным сном».
Когда, благодаря успехам науки, люди здоровыми и деятельными будут доживать до развития инстинкта смерти, то станут относиться к ней так же спокойно, как и эти старцы, и смерть перестанет быть одной из главных причин пессимизма.
Вот почему следует стремиться продлить человеческую жизнь, дать возможность всем людям завершить весь свой жизненный цикл, приводящий к душевному равновесию. Психологические наблюдения привели Илью Ильича к выводу, что пессимизм гораздо более свойственен юношескому, чем пожилому возрасту. Он объясняет это постепенностью развития инстинкта жизни, который вполне проявляется только в зрелом возрасте. С наступлением его человек начинает ценить жизнь; умудренный опытом, он менее требователен к ней, вследствие чего и душевное состояние его становится уравновешеннее. Илья Ильич подтверждал свои выводы на конкретных примерах. Он разбирал психическую эволюцию Гете, отраженную в его «Фаусте» , и психологию своего «близкого друга» . Эти примеры показывают, что естественное психологическое развитие само по себе даже уже и нынче приводит к оптимизму.
Но пока старость патологична, а смерть преждевременна, предвидение их нарушает нормальную эволюцию оптимизма.
С уравнением этих бед будет восстановлен естественный ход жизни со сменами нормальных, деятельных возрастов.
В каждом из них будет возможно выполнение тех или других, соответственных возрасту, общественных и личных функций; инстинкт смерти будет иметь время вполне развиться; человек пройдет весь свой нормальный цикл жизни — ортобиоз — и спокойно, бесстрашно уснет вечным сном.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ. КИСЛОЕ МОЛОКО
Вопрос кишечной флоры так обширен и труден, что требует многолетней разработки. Много фактов было уже собрано в науке относительно кишечной флоры; тем не менее вопрос этот оставался далеко невыясненным и неразработанным. Некоторые ученые утверждали, что микробы, разлагая пищевые вещества в кишках, способствуют этим пищеварению и, следовательно, полезны и даже необходимы организму. Другие были совершенно обратного мнения; поэтому прежде всего надо было решить этот вопрос.
Объектом для исследования Илья Ильич выбрал летучую мышь, животное с коротким кишечником и без обособленных толстых кишек. Как он предполагал a priori, оказалось, что в кишечнике этого животного почти нет микробов. Факт этот доказывает, что кишечное пищеварение может совершаться без их помощи. Затем ученикам Ильи Ильича (Коэнди и Вольману) удалось выращивать некоторых животных при полном отсутствии всяких микробов. Убедившись в том, что последние не необходимы для пищеварения, Илья Ильич приступил к выяснению их роли по отношению к организму. Общепризнано, что продукты гниения ядовиты; он спросил себя: нет ли среди кишечных микробов гнилостных начал? Вопрос этот не был еще выяснен. Некоторые бактериологи думали, что в нормальных кишках не происходит гниения или что оно проявляется лишь в очень незначительной степени.
Систематические исследования кишечной флоры привели, однако, Илью Ильича к убеждению, что она заключает несколько видов гнилостных микробов, выделяющих очень сильные яды. Задавшись вопросами, какие именно бактериальные продукты отравляют клетки нашего организма, он предпринял со своими учениками1 ряд опытов, которые показали, что отравление это обусловлено бактериальными ядами ароматической группы — фенолами и индолами. Этими ядами ему и его сотрудникам удалось искусственно вызывать у животных (кроликов, свинок, обезьян) артериосклероз и изменения органов, соответствующие наблюдаемым в старости. Найдя причину этих изменений, Илья Ильич стал, естественно, искать средства борьбы против микробов кишечного гниения. Для жизни гнилостных микробов необходима щелочная среда, какой она и представляется в нормальных толстых кишках. Поэтому Илья Ильич стал искать средства окислить ее, не вредя в то же время самому организму.
Давно уже было замечено, что молоко, скисая, не загнивает; поэтому он сказал себе, что молочнокислые бактерии, вызывающие скисание молока, мешают этим его разложению. Выделяя кислоту, они являются таким образом антагонистами гнилостных бактерий. Из этого он вывел, что кислое молоко должно быть полезным, благодаря присутствию в нем кислотворных микробов. Подтверждение этого он находил в факте исключительной долговечности населения, питающегося главным образом кислым молоком. Так, в Болгарии жители целых пастушеских деревень употребляют в пищу почти одно кислое молоко и отличаются особенной долговечностью. На основании этих соображений он стал делать опыты над самим собой и ввел в свой обиход систематическое употребление кислого молока, приготовленного из чистых культур кислотворных бактерий. Когда на его здоровье обнаружилось благоприятное влияние этого режима, среди его окружающих многие последовали его примеру. Некоторые врачи стали советовать кислое молоко как гигиеническое средство, и мало-помалу употребление его распространилось. Илья Ильич считал это лишь первым шагом к достижению искусственного превращения дикой и вредной кишечной флоры в культивированную и полезную.
Изучение кишечной флоры оказалось крайне сложным ввиду огромного количества микробов, входящих в ее состав, разнообразия их продуктов и трудности при их перекрестных влияниях выделить действие на организм каждого вида микробов в отдельности. Ввиду этого он стремился организовать коллективные работы; он говорил, что жизни и знания одного человека не хватит на решение такой обширной задачи, что только солидарной разработкой, «симбиозом научных сил» можно будет добиться этого. Ему удалось до известной степени осуществить такой «симбиоз» в своей лаборатории.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПРЕМИЯ НОБЕЛЯ. ПОЕЗДКА В СТОКГОЛЬМ И РОССИЮ. В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
В 1908 году Илье Ильичу, пополам с Эрлихом, была присуждена нобелевская премия за исследование об иммунитете. По уставу этой премии, получивший ее должен прочесть лекцию в Стокгольме. Илья Ильич избрал темой „Современное положение вопроса об иммунитете в заразных болезнях». И весною 1909 года мы поехали в Швецию, а оттуда в Россию.
Поездка эта была сплошным рядом празднеств в честь его. Он был очень тронут и благодарен за такой радушный прием, но говорил с обычным своим юмором, что нобелевская премия, подобно волшебному жезлу, впервые открыла публике значение его исследований. Мы пробыли лишь короткое время в Швеции, где Илье Ильичу было оказано самое любезное гостеприимство. Страна эта произвела на нас неотразимое впечатление; ее глубокие сизые воды, дикие скалы, темные сосны придают ей легендарный облик. Не одна природа, но и скандинавское искусство, так поразительно отражающее ее, произвело сильное впечатление на Илью Ильича. Ему особенно нравились поэтичные картины Лилиенфорса, изображающие с необыкновенной психологией животных на фоне реально-сказочного пейзажа.
В Россию мы поехали через Балтийское море. Стояли «белые ночи». Скалистые острова, покрытые соснами, призрачно вставали из темного моря, освещенного таинственным северным светом; все это производило впечатление волшебного сновидения. В России Илью Ильича ждал самый радушный, сердечный прием. Как в Петербурге, так и в Москве научные и медицинские общества, учащаяся молодежь и интеллигенция вообще выражали ему глубокую симпатию. Такое теплое отношение значительно изгладило горечь, подчас вызываемую в нем отдаленными воспоминаниями причин его ухода из родины.
Благодаря любезному посредничеству М. М. Стаховича нам довелось в этот приезд лично познакомиться с Л. Н. Толстым. Мы провели целый день в Ясной Поляне и от этого дня сохранили впечатление на всю жизнь.
Рано утром сошли мы с поезда на ст. «Засеки», куда за нами выслали лошадей. Было чудное росистое утро после дождя. Уже сама поездка по полям, через леса и луга приводила в повышенное настроение, а предвидение встречи с Львом Николаевичем еще более волновало нас. Вот показалась деревня; в стороне старый сад с открытыми воротами; это была Ясная Поляна. С волнением въехали мы в длинную тенистую аллею, в конце которой скрывалась в зелени усадьба. Весна была в полном разгаре; все вокруг цвело и благоухало. От дома и старого сада веяло поэтической прелестью старинных русских «дворянских гнезд». У подъезда встретила нас дочь Льва Николаевича, Александра Львовна. Своей дружелюбной простотой она сразу создала атмосферу спокойной непринужденности. Не успели мы войти в переднюю, как увидели самого Льва Николаевича, быстро спускающегося по лестнице. Мы, конечно, тотчас узнали его, хотя он показался нам иным, чем на всех его изображениях. Прежде всего, поражал его взгляд — глубокий, проницательный и в то же время детски-светлый. В нем не было и помина той суровости и чего-то волчьего, которое привыкли видеть на его изображениях; черты были гораздо тоньше, и все лицо несравненно одухотвореннее. Он проницательно посмотрел нам в глаза, точно хотел увидеть насквозь; но лицо его озарила такая добрая, приветливая улыбка, что нам стало легко. Он казался бодрым и крепким; нельзя даже было назвать его стариком, так много внутренней жизнь чувствовалось в нем. После приветствия первыми словами его были: «Между вами есть сходство; это бывает, когда люди долго и хорошо живут вместе». Расспросив о нашем путешествии и впечатлении, произведенном Россией после продолжительного отсутствия, он сказал, что пойдет кончать свой утренний урок.
Сын его и дочь (Лев Львович и Александра Львовна) повели нас в сад, а затем на деревню. По разговорам со встречными крестьянами видна была близость между жителями усадьбы и деревни. Не успели мы вернуться, как на террасе появился Лев Николаевич, говоря, что дает себе каникулы на этот день.
Он стал расспрашивать Илью Ильича о научных работах, о современном положении гигиены, о приложении научных открытий к жизни. Слушал он внимательно, с видимым интересом. В конце беседы он сказал, что его совершенно ошибочно обвиняют в отрицательном отношении к науке; что он порицает лишь лженауку, не имеющую никакого отношения к благу людей. «В сущности, — закончил он, — мы с вами идем параллельными путями к общей цели». Во всех его словах сквозила глубокая любовь к людям и страстное желание служить их благу.
Когда разговор перешел к литературе и искусству, Лев Николаевич сказал, что теперь так далек от этой области, что забыл даже некоторые из собственных художественных произведений и что ценит их гораздо меньше, чем свои статьи по вопросам духа. Он находил, что красота формы подчас даже мешает усвоить неизмеримо более ценную духовную суть. На возражение, что художественное творчество возвышает душу, дает поддержку и отраду в жизни, Лев Николаевич отвечал, что он и теперь признает искусство, поскольку оно служит сближению между людьми и очищает их душу, но что нравственный интерес должен преобладать над эстетическим. Он рассказал, что подготовляет новое произведение, касающееся социального движения в России. По этому поводу заговорили о политических репрессиях. Упоминание казней, тюрьмы, ссылки, видимо, доставляло ему почти физическое страдание; глаза его приняли глубоко скорбное выражение, обнаруживающее всю отзывчивость его души.
В аграрном вопросе он был за национализацию земли и очень увлекался теориями Генри Джорджа. Он считал пагубной политику, ведущую к разрушению общины в России. Илья Ильич на это возражал, что личные наблюдения в Малороссии привели его к убеждению, что, наоборот, индивидуальная земельная собственность крестьян дает лучшие результаты в земледельческой культуре.
Несмотря на рознь в этом вопросе, Лев Николаевич не обнаруживал ни малейшей нетерпимости, и разговоры мирно вращались на разнообразные темы. О чем бы ни заговорили, во всем выражалась красота его высокой души.
После завтрака он выразил желание поговорить наедине с Ильей Ильичом и предложил прогулку к своим друзьям Чертковым. Он поехал вместе с Ильей Ильичом в кабриолете и сам правил. Дорогой он вновь вернулся к вопросу о своем отношении к науке. Он развивал мысль, что при наличности всяких бед и жизненных вопросов, требующих немедленного разрешения, мы не в праве предаваться отвлеченным занятиям, не имеющим ничего общего с жизнью. «Какое благо человеку от знания веса и размеров планеты Марса и тому подобного», — говорил он. Илья Ильич возражал на это, что теория гораздо ближе к жизни, чем это кажется, и многие благодеяния человечеству вытекали из совершенно отвлеченных умозаключений. Установление наукой незыблемых законов природы доказало мировую законность, которой логично подчинены все явления; законность эта, а не произвол слепых сил управляет миром. Одно такое сознание великое благо. Микробы были открыты, когда еще не подозревали роли их в судьбе людей; тем не менее, открытие это повело к благу последних, сделав возможным борьбу с болезнями.
На обратном пути Лев Николаевич поехал верхом. Он держался прямо и красиво на лошади и казался еще моложавее. Вернувшись, он пошел отдыхать, а Софья Андреевна доставила нам великое удовольствие, прочитав вслух тогда еще неизданные два его произведения: прелестный рассказ «После бала» и первую часть трагического «Отец Сергий». Перед вечером друг Толстых, известный пианист Гольденвейзер, сел за рояль, и в весенних сумерках раздались чудные звуки Шопена. Лев Николаевич сидел в кресле и слушал, все более и более проникаясь лирической прелестью этой музыки. Глаза его застилали слезы. Под конец он закрыл лицо рукой и замер в этой позе. Илья Ильич был также глубоко растроган. Влияние музыки на душу обоих этих людей и наслаждение, которое она доставляла им, — было лучшей защитой чистого искусства. « Когда я слушаю Шопена, не знаю, что со мною делается, в самую душу мою проникает он, — сказал Лев Николаевич. — Он и Моцарт всего сильнее действуют на меня. Какая лирика и какая чистота».
Любимыми композиторами Ильи Ильича были Моцарт и Бетховен, но Лев Николаевич находил последнего слишком «сложным». Относительно Вагнера и „новой музыки» оба сходились на непонимании ее. Она казалась им негармоничной и вычурной.
За чайным столом разговор коснулся старости, и Илья Ильич по этому поводу развивал свою теорию дисгармонии человеческой природы. Он ссылался на гетевского «Фауста» , как на лучшее художественное отражение эволюции последовательных фаз человеческой жизни. По его мнению, вторая часть «Фауста» — не что иное, как аллегорическое изображение дисгармонии, проявляющейся в старости. Это картина драматического столкновения еще пылких, юных чувств старика Гете с его физической дряхлостью.
Лев Николаевич казался очень заинтересованным таким объяснением и сказал, что непременно перечитает вторую часть «Фауста» , но ручается, что сам не подаст уже примера подобной дисгармонии.
По поводу взгляда Ильи Ильича на преждевременность смерти, как на причину страха перед нею, Лев Николаевич утверждал, что вовсе не боится умереть, и шутя прибавил, что, однако, постарается дожить до ста лет, чтобы доставить удовольствие Илье Ильичу.
Наш поезд отходил поздно ночью, и до самого отъезда не прекращались оживленные разговоры. Каждое слово рисовало высокую душу Льва Николаевича, в которой не было места для иных интересов, как духовных. Казалось бы, что он парит над землею, если бы не его горячее сердце, влекущее его к людям с их бедами и ошибками. С ним чувствовалась атмосфера горных высот, ее чистый воздух и яркий свет; все фибры души говорили: «это место свято».
Свидание это было встречей двух возвышенных душ и умов, но до чего различных. Один — строго научный, рациональный, опирающийся на прочные биологические факты, чтобы на их твердыне расправить крылья и подняться в самые возвышенные сферы мысли; другой — художник, мистик, стремящийся к той же выси духа. У обоих — общая цель: благо и усовершенствование людей, но сколь различны были их пути.
При прощании Лев Николаевич сказал: «Не прощайте, а до свидания». И когда мы уже сели в экипаж и лошади тронулись, он стоял на фоне освещенного окна, точно в сиянии, и дружелюбно махал нам рукой. «До свидания, до свидания», донесся его голос в последний раз...
Под сводом необъятного неба стояла тихая, звездная ночь. Величие ее сливалось в душе с величьем чарующего, одухотворенного образа Льва Николаевича.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. КИШЕЧНАЯ ФЛОРА. ДЕТСКАЯ ХОЛЕРА И ТИФ. ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Вернувшись из России, Илья Ильич с обычным жаром принялся за работу. Он продолжал со своими сотрудниками исследовать нормальную флору и ее микробные яды, вызывающие артериосклероз. Им удалось прочно установить, что некоторые микробы нормальной флоры кишек (например кишечная палочка — Вact, coli и др.) производят яды — фенолы и индолы, которые всасываются нормальными стенками кишек, вызывая артериосклероз и другие повреждения органов. Часть этих ядов выделяется в мочу, и по количеству их в последней можно судить о количестве их в организме. Оно увеличивается при исключительно мясном или вегетарианском режиме и уменьшается при смешанном.
Все последующие годы Илья Ильич делал систематические исследования своей собственной мочи в связи с употребляемой пищей. Некоторые факты и опыты указывали на то, что, пользуясь взаимодействием микробов, можно ослабить и даже устранить до известной степени вредное влияние некоторых из них. Так, молочнокислые микробы, взращенные вместе с микробами, выделяющими яды ароматической группы, — мешают этому выделению и даже почти совсем устраняют его. Все эти факты подтверждали прежние выводы Ильи Ильича и указывали на путь, по которому следует идти в борьбе с ядами, постепенно отравляющими организм и вызывающими преждевременную старость.
Выяснив, таким образом некоторые вопросы относительно роли микробов в нормальном организме, Илья Ильич перешел к патогенной кишечной флоре. Он начал с детской холеры, так как здесь условия проще, вследствие исключительно молочного питания маленьких детей. В медицине царило мнение, будто детские кишечные болезни вовсе не инфекционного происхождения, а зависят от способа питания, летней жары и тому подобных внешних причин. Однако Илье Ильичу удалось доказать, что содержимое кишек заболевших холерой детей постоянно заключает один и тот же вид микробов, а именно — протеус; Илья Ильич вызвал ту же болезнь у молодых человекообразных обезьян, примешивая к их пище испражнения больных детей, чем установил заразный характер детской холеры.
Затем он обратился к другой кишечной болезни — брюшному тифу, заразное начало которого (бацилла Эберта) было давно известно. Несмотря на это, болезнь не могла быть изучена экспериментально, так как обычные лабораторные животные невосприимчивы к ней. Илья Ильич вновь прибегнул к человекообразным обезьянам и вызвал тиф у шимпанзе, заразив его выделениями кишек тифозного больного. Затем, в сотрудничестве с доктором Безредкой, он предпринял ряд опытов на человекообразных обезьянах и на мартышках. Только первые давали картину типичного тифозного заболевания. Его можно было вызвать прививкой чистой культуры бациллы Эберта, что окончательно подтвердило специфичность последней. Антитифозные предохранительные прививки мертвыми бациллами были не прочны и не постоянны. В те времена еще не было выработано действительной вакцинации против тифа, и потому приходилось ограничиваться простыми предупредительными гигиеническими мерами, как и для других кишечных заболеваний, а именно: употреблением переваренной пищи, чистотой как личной, так домашней и уличной, уничтожением насекомых, особенно мух, часто переносящих заразу на пищу, и т. д. Для распространения этих сведений Илья Ильич писал целый ряд общедоступных статей в газетах.
Позднее различными учеными были найдены предохранительные прививки против тифа. Безредка открыл антитифозную вакцинацию живыми сенсибилизированными1 бациллами. В 1912 году в сотрудничестве с ним Илья Ильич на человекообразных обезьянах доказал, что эта вакцинация живыми сенсибилизированными микробами не только действительна, но что она в то же время не представляет опасности распространения бацилл в организме; последние, будучи безвредными для привитого, могли бы быть опасными для окружающих; но опасность эта устранялась тем, что сенсибилизированные бациллы фагоцитируются тотчас же, на самом месте впрыскивания их.
Илья Ильич всегда считал крайне полезным знакомить публику с результатами, добытыми наукой. «Одно проникновение их в жизнь, — говорил он, — может обеспечить рациональное применение гигиены и предупреждение болезней». И он пользовался каждым случаем для популяризации принципов науки и результатов, добытых ею. Так, в 1908 году он прочел в Берлине лекцию «О целебных силах организма». Ту же тему он развил в «Вестнике Европы» с прибавлением содержания лекции, прочитанной им в Стокгольме об иммунитете. В статье своей он излагал эволюцию фагоцитной теории иммунитета и применение его в медицине. Как примеры такого применения он приводил указание, которое дает количество белых кровяных шариков на вероятный исход заразной болезни; способ, употребляемый некоторыми хирургами для уменьшения опасности заражения во время операции, — подобно тому, как в случае грозящей опасности от врага мобилизуют армию, так эти хирурги употребляют различные средства для привлечения армии фагоцитов и для усиления их деятельности на месте возможного вторжения заразных начал (например, впрыскиванием нагретого серума и т.д.).
В 1909 году, по возвращении из России, Илья Ильич прочел лекцию в Штутгарте «Мировоззрение и медицина», он напечатал ее также в «Вестнике Европы». В ней он развивал содержание своих двух книг: «Этюды о природе человека» и «Этюды оптимизма». Названием этой статьи «Миросозерцание и медицина» он хотел подчеркнуть свою идею, что «человек в том виде, в каком он появился на земле, есть существо ненормальное, больное, подлежащее ведению медицины». Статья заканчивалась, однако, той же оптимистической мыслью, которая яркой нитью проходит во всем его миросозерцании последнего периода: „человек при помощи науки в состоянии исправить несовершенства своей природы».
Если Илья Ильич указывал на эти несовершенства и зло в природе, то делал это не только из любви к истине и из научной честности, но он всегда искал в то же время средств борьбы против зла и доказывал, что борьба эта возможна. Он никогда не терял из вида, что факел знания освещает тернистый путь и ведет к верному выходу, который будет найден благодаря воле и силе мысли человека.
Вот почему все его произведения — поощрение и опора.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. КАЛМЫЦКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Во время своих прежних поездок в калмыцкие степи Илья Ильич слыхал, что там чахотка почти неизвестна, но что калмыки легко и быстро заражаются ею, приходя в соприкосновение с внестепным населением.
Ввиду того, что все испробованные способы борьбы с туберкулезом до сих пор не давали удовлетворительных результатов, чувствовалась необходимость искать новых путей для дальнейших исследований. Илья Ильич давно уже думал найти указания в этом направлении в отмеченной выше необычайной восприимчивости калмыков вне степи. Но для исследования этого вопроса надо было организовать экспедицию в далекие калмыцкие степи, что до сих пор было невыполнимо. Теперь, когда средства института увеличились, это, наконец, стало возможным.
Гипотеза Ильи Ильича заключалась в том, что в природе должна существовать естественная вакцинация к туберкулезу. Только этим можно объяснить, отчего при огромном распространении его большинство людей все же не заболевает. Илья Ильич предполагал, что существуют ослабленные расы туберкулезных бацилл, которыми человек заражается в раннем детстве, и что это предохраняет его против более вирулентных бацилл. Уже давно нашел он, что виды микробов, при различных условиях, могут претерпевать морфологические и функциональные изменения, а следовательно также колебаться в вирулентности. Он описал это явление в 1888 году под заглавием: «Плеоморфизм микробов». Гипотеза эта легко объясняла крайнюю чувствительность калмыков к туберкулезу. Действительно, если в их степях нет туберкулезных бацилл, то жители там не имеют возможности подвергнуться естественной вакцинации в детстве. Поэтому, попав непредохраненными в зараженную среду, они легко заболевают.
Итак, калмыцкая экспедиция, прежде всего должна была установить с помощью специальной диагностической реакции (Пиркэ), действительно ли у калмыков в степях нет туберкулеза? Учащаются ли заболевания по мере сближения с вне-степным населением? В случае подтверждения этой гипотезы Илье Ильичу предстояло направить все усилия на обнаружение естественной вакцины и на искусственное применение ее. Помимо туберкулезной задачи решено было попутно произвести исследования относительно чумы, уже многие годы эндемичной в киргизских степях. Когда проект института стал известен, то из России просили Илью Ильича руководить и русской экспедицией, направляющейся в киргизские степи для исследования чумы. Он мог только взяться составить программу занятий этой экспедиции и организовать примерные исследования в одном из чумных очагов, так как иначе не успел бы выполнить своей задачи относительно туберкулеза в калмыцких степях. В состав экспедиции от Пастеровского института вошли доктора: Бюрнэ, Салимбени и Яманучи; в Москве к ней присоединились доктора Тарасевич и Шукевич, а в Астрахани врачи русской чумной экспедиции. 14 мая 1911 года выехали мы из Парижа. Илья Ильич был в бодро повышенном настроении. Он всячески старался сделать путешествие приятным своим спутникам, — познакомить их со всем характерным и интересным в России. Благодаря радушному приему, гостеприимству и деятельному содействию всех, с кем приходилось быть в соприкосновении, это пребывание в России оставило у участников экспедиции неизгладимое впечатление; часто впоследствии любили они вспоминать это время.
Особенно обаятельным было путешествие по Волге, из Нижнего Новгорода в Астрахань. В течение этого пятидневного переезда Илья Ильич единственный раз в жизни, кажется, предавался с наслаждением „dolce farniente» 1, следя глазами за тихим, успокоительным пейзажем убегающих берегов.
Волга разлилась на огромное пространство. Местами леса, глубоко погруженные в воду, стояли, отражаясь в ней, точно заколдованные. От времени до времени встречались затерянные деревушки, виднелись золоченые куполы монастырей; луга, леса, обрывистый берег или откосы — вот и все. А между тем в этой простоте и однообразии сколько поэзии, величия, тихой, спокойной силы. Как в калейдоскопе, развертывались разнообразные типы и картины нравов. Вдоль берега тянулись вереницы паломников; их серые поникшие фигуры дышали смиреньем и глубокой верой. Иногда на пристани или на палубе раздавались хватающие за душу волжские песни. Созерцательное спокойствие прерывалось лишь во время стоянок у пристаней больших городов, где экспедицию приветствовали различные депутации. Но и это носило трогательно-сердечный характер, потому что чувствовалось, что энтузиазм встречавших объяснялся уважением к высокой культуре, представителей которой здесь чествовали. И было трогательно видеть, как этой далекой, подавленной стране глубок и жив возвышенный идеал.
В Царицыне на пароход сели киргизы; они направлялись на большую ярмарку, куда стекаются их единоплеменники со всей степи. Илья Ильич увидел в этом незаменимый случай узнать, нет ли между ними носителей чумной заразы. Поэтому он решил, что те члены экспедиции, которые должны были заняться чумой, поедут на ярмарку с киргизами для выяснения этого вопроса. Он же с остальными членами экспедиции пока будет проводить диагностическое исследование на туберкулез у калмыков в Астрахани. Там миссия встретила самый радушный прием и общее ревностное содействие. Астраханский губернатор приготовил для экспедиции не только все необходимое, но даже предметы комфорта, которые значительно смягчили утомительное путешествие по степям.
В ожидании приезда остальных членов миссии можно было произвести многочисленные диагностические реакции в Астрахани и окрестностях. Калмыки очень охотно подвергались им, думая, как мы потом узнали, что это род оспопрививания. По приезде членов чумной экспедиции обе миссии направлялись в киргизские степи, где находился чумный очаг, на северном берегу Каспийского моря. Не успели мы войти в море, как поднялось сильное волнение. Северный ветер гнал волны от киргизских берегов и делал невозможным дальнейшее движение. Вместо 23 часов мы пробыли в море целых трое суток. День и ночь измеряли матросы глубину, и выкрикивание их: «два с половиной фута» вскоре сделалось общим кошмаром.
Положение казалось критическим; уже начали поговаривать о необходимости возвратиться в Астрахань; но Илья Ильич не хотел и слышать об этом и страшно волновался. Наконец, после различных приключений, мы высадились на киргизский берег. По нем, точно стая валькирий, с дикими криками и гиканьем неслась верховая толпа киргизов в ярких, пестрых одеждах. Перед нами расстилалась степь, бесплодная, песчаная. Она производила жуткое впечатление страны, забытой богом и людьми. Казалось, как возможно жить в ней? Но мало-помалу прелесть необъятного пространства, чистота воздуха, тишина, гармония тонов, степной аромат, — все это охватывает тебя, и ты начинаешь понимать, что можно не только жить в этой пустыне, но и любить ее.
Чумный очаг находился среди пустынных холмов, поросших низкими травами. На пригорке чернели могилы, где были зарыты сожженные чумные трупы; поодаль виднелось несколько покинутых низких мазанок (зимовников) с разбитыми стеклами и забитыми дверями.
Чтобы решить причины эндемичности чумы, прежде всего надо было узнать, как долго сохраняются живыми чумные микробы в зачумленной местности; сохраняются ли они в трупах, скорее обгорелых, чем сожженных; находятся ли они в окрестной почве; заражены ли ими земляные черви, насекомые и домашние животные, могущие в этом случае быть распространителями заразы, причиной ее эпидемичности.
Организовав маленькую лабораторию, приступили со всеми мерами предосторожности к вырытию и вскрытию трупов. После трехмесячного пребывания в земле они уже сильно разложились и не заключали более живых микробов. После первых наблюдений и установления плана дальнейших исследований Илья Ильич отделился от чумной экспедиции и направился обратно в Астрахань и в калмыцкие степи.
Все было превосходно приготовлено для этой экспедиции местным управлением, благодаря чему она совершилась при наилучших условиях1.
Въезд в степи был торжественен: депутация калмыков на калмыцком базаре встретила миссию и преподнесла Илье Ильичу бронзового Будду. Калмыки поражают своим смиренным, грустным видом, медленностью движений, потухшим взглядом, чем резко отличаются от живых, бойких киргизов. Одна из причин этому — то, что киргизы, как мусульмане, не употребляют спиртных напитков, калмыки же пьют молоко, подверженное спиртному брожению, что в слабой степени, но постоянно отравляет их, как заметил это Илья Ильич еще в свое прошлое посещение.
Калмыки живут в круглых, войлочных кибитках, перенося их на верблюдах во время перекочевок. Они не занимаются земледелием, а пасут стада овец и лошадей, оставаясь на месте до полного истощения пастбищ. Этим они постепенно превращают степи в пустыню. Ввиду такой угрозы русское правительство начинает делать попытки искусственного разведения пастбищ. Местами степь покрыта мелкими кустами тамариска, ковылем и шелковистыми травами, но вообще в ней преобладает одна серебристая полынь. Однако однообразие степи не так велико, как казалось бы: точно зеркало отражает она все световые эффекты; волшебные явления природы наблюдаются в ней. Во время сильной жары наблюдаются миражи — озера, бухты с силуэтами прибрежных деревьев и тростника. Они кажутся обманчиво реальными, пока очертания их не начинают меняться, стушевываться, исчезать.
Подчас наступает ужасающее явление — смерч. Страшный вихрь поднимает песок, то языками пожарного пламени, то винтообразной воронкой, с головокружительной быстротой устремляющейся в облака. Мало-помалу все отдельные песчаные вихри соединяются в одну гигантскую стену, несущуюся в оргии движения. Все смешивается: грозные, черные тучи точно устремляются на землю; песок вздымается к небу, и все исчезает; наступает тьма, хаос... Чувствуешь себя до такой степени во власти природы, что фанатизм бедных обитателей этой страны становится понятным. Калмыки, эти первобытные кочевники, производят впечатление выходцев из давно минувших веков. Илья Ильич находил, что со времени его путешествия в степи, в 1874 год)', значительно усилились четыре бича, губящие калмыков: сифилис, водка, туберкулез и русская колонизация, постепенно оттесняющая их. Бедный народ видит свою гибель и смиряется, как больной, знающий свой смертный приговор... Духовная жизнь калмыков сводится исключительно к религиозному культу. В многочисленных буддийских монастырях воспитываются дети, обреченные на монашество. Богослужение совершается духовенством в ярких пурпуровых и оранжевых одеждах. Для непосвященного его роль представляется, главным образом, разворачиванием бесконечно длинных свертков молитв (вместо произнесения их) и выполнением религиозной музыки — какофонии, в которой узнаешь крик верблюда, вой собак и бесконечную жалобу. От древнего чистого созерцательного духа буддизма осталась одна форма. Однако в степях есть один монастырь — Чори, организованный наподобие тибетского монастыря Далай Ламы, род духовной академии, стремящейся поднять уровень духовенства и возродить учение Будды в его чистоте.
Пересекши степь с юга на северо-восток, мы попали, наконец, в Сарепту, которая кажется цивилизованным центром после первобытной жизни степей. Хотя во все время путешествия по ним мы встречали самое широкое гостеприимство, но условия жизни, тем не менее, были несколько тяжелы. Пища, сводящаяся, главным образом, к баранине и консервам, часто вызывала кишечные расстройства. Чрезмерная жара, отсутствие воды, большое количество разных неприятных насекомых были крайне утомительны. Несмотря на все это, Илья Ильич довольно хорошо переносил путешествие, был по обыкновению деятелен и весел, хотя с самой Москвы у него не прекращались сердечные перебои, а иногда бывали острые боли вдоль грудной клетки. Но вот в Сарепте, несмотря на ее относительно европейскую обстановку, он стал чувствовать очень сильное утомление. Жара наступила удручающая; температура доходила до 35° в тени и 52° на солнце. Вечером, когда можно было бы освежиться и подышать воздухом, нельзя было ни выйти, ни открыть окна из-за мириадов комаров — носителей малярии (однако, благодаря ежедневному приему хинина, никто не заболел ею). Илья Ильич, который до сих пор оставался бодр, вдруг ослабел, сделался сонливым и нервным; он приписывал это состояние чрезмерной жаре. Все члены экспедиции, как киргизской, так и калмыцкой, разбредшиеся в разные стороны для исследования, съехались в Сарепте для подведения итогов собранному материалу. Работы чумной экспедиции не были еще закончены, и русская миссия должна была продолжать их. Пока было установлено, что ни трупы через некоторое время, ни насекомые, ни почва не заключают чумных микробов. Среди населения также не было найдено носителей заразы. Что же касается результатов калмыцкой экспедиции, то они вполне подтвердили гипотезу Ильи Ильича. В центре степи, где калмыки еще изолированы, туберкулеза почти нет. Реакция Пиркэ становится положительной только постепенно от центра к периферии степей, прямо пропорционально сношениям калмыков с внестепным населением. Поэтому весьма вероятно, что крайняя восприимчивость калмыков зависит именно от того, что они не подвергаются в детстве естественной вакцинации в своих степях. В то же время это подтверждает предположение о существовании естественной вакцинации. Из всего этого Илья Ильич заключил, что будущие исследования должны быть прежде всего, направлены на отыскание естественных вакцин и на обнаружение способов предохранения ими.
Так кончилась калмыцкая экспедиция. Кроме научных результатов, поездка в Россию имела еще и личное влияние на Илью Ильича. Покинув родину 23 года тому назад, он оставался под впечатлением ошибки, сделанной убийством Александра II, — ошибки, приведшей к долголетней реакции. Поэтому он очень скептически относился к революционному движению и думал, что необходимые реформы будут осуществлены эволюцией правительства. За пребывание в России он ближе ознакомился с многими фактами русской жизни, и они повлияли на отклонение его влево. Сильное впечатление произвела на него подавляющая политика Кассо, разгромы, производимые им в университетах, и т. п. Его глубоко возмущало и огорчало, что в стране, где надо бы особенно лелеять и бережно охранять все, что ведет к развитию культуры, происходило, напротив, грубое гасительство ее. Его возмущало гонение на поляков и евреев, поощрение черной сотни и обскурантизма, дающего государственную силу разным темным личностям, как Распутину. Все это не могло не вызывать протеста в человеке, который выше всего ценил свободное развитие культуры. С другой стороны, он был отрадно поражен успехами русской интеллигенции, даже в отдаленной провинции работающей, стремящейся к знанию и прогрессу, преклоняющейся перед возвышенными идеалами. Он совершенно перестал рассчитывать на прогрессивную эволюцию правительства, неспособного стать на высоту сложных задач русской жизни, и стал ждать разрешения их от русской интеллигенции, помимо правительства и против него.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ. СОРОК ЛЕТ ИСКАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ»
С тех пор, как Илья Ильич пришел к выводу об огромном значении кишечной флоры в жизни человека, мысль его сосредоточилась на этом вопросе, и главные исследования его были направлены на изучение кишечных микробов и их влияния в нормальной и патологической жизни. Поэтому тотчас по возвращении из России он деятельно принялся за работу. Лето было очень жаркое, появилась эпидемия детской холеры; он воспользовался этим, чтобы пополнить свои начатые раньше исследования. Благодаря значительному количеству случаев заболевания он смог окончательно установить специфическую роль протеуса в детской холере и сходство ее с азиатской. На этот раз ему удалось заражать не только молодых человекообразных обезьян, но и новорожденных кроликов, и не только выделениями кишек больных детей, но и чистыми культурами протеуса, устраняя таким образом возражения против специфичности последнего. Илья Ильич объяснял заражение детей, питающихся одним материнским молоком, присутствием носителей протеуса среди окружающих взрослых, невосприимчивых к нему. Кроме того, заразу могут распространять мухи, перенося ее на предметы, которые дети так неудержимо берут в рот. Поэтому он пока считал главной мерой борьбы с детской холерой гигиену и чистоту, особенно тщательную вокруг грудного ребенка.
В течение 1912 года Илья Ильич, главным образом, занимался кишечной флорой и влиянием различных пищевых режимов. Опыты он производил на крысах, животных всеядных, чем они более других приближаются к человеку. Распределив крыс на три группы, он кормил одну исключительно мясной пищей, другую растительной, третью смешанной. Наименее благоприятным режимом оказался мясной, наиболее благоприятным — смешанный. Результат этот повел к разработке многих тесно связанных с ним задач. В сотрудничестве со своими учениками, Вертело и Вольманном, Илья Ильич предпринял ряд опытов для исследования условий, способствующих устранению кишечных ядов. Всего менее ядовитых продуктов оказалось у животных, которых кормили овощами и фруктами, заключающими много сахара (морковь, репа, свекла, финики). Это объясняется тем, что продуктами распада сахара являются кислоты, противодействующие развитию гнилостных микробов. Но, так как сахар всасывается очень быстро, большею частью еще не дойдя до толстых кишек, то необходимо было найти средство довести его до них. В известной степени это и достигается употреблением богатых сахаром овощей и фруктов, клетчатка которых защищает сахаристые соки по пути к толстым кишкам. Но чтобы количество сахара в них было значительнее, Илья Ильич стал прибавлять к пище культуру безвредного микроба гликобактер пептоникус1, превращающего крахмал в сахар. Размножаясь в толстых кишках, микроб этот на месте разлагает крахмал пищи, производя на счет его сахар, который, в свою очередь, продуктом дальнейшего распада дает кислоты, мешающие гниению. На основании этих опытов Илье Ильичу удалось доводить до минимума, а иногда и вполне устранять образование фенола и индола у крыс, кормя их смешанной пищей с примесью молочнокислых бактерий вместе с гликобактер пептоникус. Он получал согласные результаты относительно пищевых режимов также и на человеке. Однако он убедился в том, что не одним родом пищи обусловлено количество ядовитых продуктов в организме. Оно иногда бывает различно при совершенно одинаковом питании. Надо полагать поэтому, что значительную роль должно играть количество предсуществующих в кишках микробов, способствующих или мешающих развитию гниения в них. Все эти вопросы, усложненные многообразием кишечных микробов, требовали еще длинного ряда тщательных исследований.
К концу зимы Илья Ильич чувствовал себя очень утомленным, и мы поехали во время каникул в северную Францию, на берег моря. Оказалось, что резкий морской ветер неблагоприятен для Ильи Ильича. У него сделался род легкого сердечного припадка, и мы поторопились переехать подальше от моря, в живописное местечко Еи. Сначала и там он чувствовал себя нехорошо, страдал от перебоев и не мог почти ходить; но Мало-помалу он так оправился, что делал длинные прогулки, не утомляясь. Он воспользовался этими каникулами для составления сборника своих прежних статей на философские темы. В этом сборнике он соединил те статьи, которые «связаны общей мыслью и направлены к установлению рационального миропонимания». В них отражается эволюция его мысли, ищущей ключ не только к «рациональному пониманию жизни, но и к решению столь полного противоречиями вопроса смерти». По этому сборнику можно проследить постепенный переход от пессимизма молодости Ильи Ильича к оптимизму его зрелых лет.
Все первые очерки2 касаются дисгармонии человеческой природы и отсутствия прочных основ нравственности. В своем «Вступительном слове» при открытии одесского съезда естествоиспытателей в 1883 году Илья Ильич, однако, уже приходил к выводу, что «теоретическая разработка естествознания в самом широком смысле одна только может дать правильный метод к познанию истины и вести к установлению законченного миросозерцания, или, по крайней мере, по возможности приблизить к нему». В очерке «О целебных силах организма» он излагал свою фагоцитную теорию и констатировал, что организм в себе самом заключает «целебные силы», посредством которых деятельно борется с враждебными началами. В статье «Закон жизни», появившейся в 1891 году, уже намечалась мысль, что, несмотря на нецелесообразное устройство человеческого организма, возможны счастливое существование и рациональная этика. «Последняя должна заключаться не в правилах жизни, сообразной с наличной, несовершенной природой человека, а в нравственных поступках, основанных на природе, измененной сообразно идеалу человеческого счастья». Это проповедь деятельной и рациональной реакции против несовершенств нашей природы. В следующем очерке — «Флора нашего тела» (1910) — Илья Ильич развивает уже определившееся оптимистическое миросозерцание, основанное на изучении не только дисгармоний наших, но и средств борьбы против них. В последнем очерке — «Миросозерцание и медицина» — раздаются уже конечные аккорды окрыленного оптимизма: это ортобиоз, который должен наступить в результате победы над дисгармониями человеческой природы, это восстановление нормального цикла жизни, ведущее к душевному равновесию. Илья Ильич следующим образом формулировал свои взгляды на задачи этики и жизни в предисловии к сборнику своих статей: «Задача этики сводится к тому, чтобы предоставить наибольшему количеству людей возможность достигнуть цели их жизни, т. е. провести весь цикл их рационального существования вплоть до естественного конца. Пока, однако же, до этого еще далеко. Теперь только намечаются правила, которым должно следовать для достижения этого идеала. Для полной разработки их необходима дальнейшая научная деятельность, которой нужно дать самый широкий простор. Можно заранее предсказать, что со временем жизнь должна будет во многих случаях сложиться иначе, чем теперь. Ортобиоз требует трудолюбивой, здоровой, умеренной жизни, чуждой всякой роскоши и излишеств. Нужно поэтому изменить существующие нравы и устранить крайности богатства и бедности, от которой теперь проистекает так много страданий. Со временем, когда наука устранит современные бедствия, когда можно будет не трепетать за здоровье и благополучие близких, когда собственная жизнь станет протекать нормально, — человек поднимется на более высокую ступень и легче чем теперь отдастся служению самым возвышенным целям. Тогда искусство и теоретическая наука займут то подобающее им место, которого они лишены теперь благодаря множеству забот. Нужно надеяться, что люди поймут свою настоящую пользу и станут содействовать успехам ортобиоза. Для этого потребуется много труда и немало самопожертвования, которые облегчатся сознанием деятельности, направленной к достижению истинной цели человеческого существования».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ПЕРВЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИПАДОК. РАЗВИТИЕ ИНСТИНКТА СМЕРТИ
„First our pleasures die, and then Our hopes, and then our fears, and when These are dead — the debt is due, Dust claims dust — and we die too».
Shelley1.
В конце 1912 года нам пришлось пережить совершенно неожиданные неприятности и волнения. Илья Ильич никогда не мог достаточно нахвалиться широким сердечным гостеприимством, встреченным им во Франции; до конца жизни он чувствовал к ней за это бесконечную благодарность и привязанность. Но всюду бывают нежелательные инциденты, которых никоим образом не следует обобщать, так как они носят лишь индивидуальный характер или ограничены узким кругом. Так и было в данном случае. Несмотря на широту и благородство взглядов, столь распространенных во Франции, в период, о котором пишу, в известном кругу развилось узко-националистическое направление. Иностранцев укоряли в том, что они занимают места, наводняют Францию, усиливая и без того тяжелую борьбу за существование. Сначала это были лишь глухие намеки, но мало-помалу националистическими организациями были перейдены все меры не только справедливости, но и приличия; нападки приняли характер грубого вызова; воскресло презрительное название «мэтэк». Особенно резко выступал один националистический орган, не брезгавший никакими средствами, чтобы очернить и унизить свою жертву. На этот раз жертвой был избран Илья Ильич. На подобные выходки можно было бы не обращать внимания и отвечать одним презрением. Но за ними последовали нападки одного из научных фельетонистов серьезной газеты. Тогда Ру протестовал в той же газете, и кампания прекратилась. Однако, как гласит известная французская пословица: «Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется», — стали говорить, что Илья Ильич пользуется своими научными открытиями для наживы.
Изложение всей его жизни и один тот факт, что он не оставил состояния, были бы достаточным ответом на эту клевету. Однако я вынуждена остановиться на ней, несмотря на то, что предпочла бы этого не делать: эпизод этот слишком характерен для Ильи Ильича; его нельзя выпустить из биографии, которая должна быть точным психологическим документом.
В основе распущенной клеветы был верный факт, но истолкование его было совершенно ложное. В то время Илья Ильич уже окончил свои опыты с молочнокислыми микробами; понятие о гигиенической роли кислого молока начинало распространяться; один промышленник пожелал приготовлять молочнокислое бродило в больших размерах на основании добытых наукою данных и обратился к Илье Ильичу с просьбой рекомендовать ему кого-нибудь, кто мог бы взять на себя техническую сторону приготовления чистых культур. Как раз в это время мы были озабочены судьбой одной молодой четы, в которой принимали участие, и ребенок которой был крестницей Ильи Ильича. Познакомив своего протеже с необходимой лабораторной техникой, Илья Ильич мог рекомендовать его. Вскоре предприниматель объявил, что не может продолжать успешно вести свое дело без гарантии именем Ильи Ильича, на основании исследований которого приготовлялось кислое молоко. Посоветовавшись с адвокатом института, Илья Ильич дал свое согласие, разумеется, совершенно безвозмездно. Принята была формула: «Единственный поставщик профессора Мечникова». Предприятие промышленника удалось (le Ferment), жизнь семьи была обеспечена, но на самого Илью Ильича посыпались нападки и самые нелепые обвинения, несмотря на то, что он не имел абсолютно никакого материального интереса в этом деле. Когда друзья говорили ему, что он поступил крайне неосторожно, он отвечал, что считал невозможным колебаться в выборе между благополучием целой бедной семьи, с одной стороны, и тем, «что скажут», - с другой. Рассуждение его было, быть может, неправильно, во всяком случае, он поступил очень неосторожно, но он никогда не колебался между оказанием помощи и дурными последствиями, которые это могло иметь для него самого. Многие не могли этого понять; он был слишком далек от обыденности, — он не был «как все», чего «все» не прощают и не понимают. Такова действительность, и «honny soit qui mal y pense» («Да будет стыдно тому, кто думает дурно»).
Постоянное желание облегчить участь окружающих было даже причиной тяжких забот последних лет его жизни. Его уверили, что открытие одного нового способа в металлургии должно обеспечить значительную и несомненную выгоду тем, кто вложит деньги для осуществления этого изобретения Илья Ильич тотчас возмечтал дать и окружающим возможность избавиться от гнета материальных забот; он советовал им воспользоваться этим случаем, как сделал и сам. Но до конца его жизни предприятие не имело никакого результата, и он был глубоко удручен мыслью, что ввел в заблуждение тех, кто последовал его совету.
Доброта часто была для него источником огорчений и неприятностей. Она доходила до слабости; он никогда не мог отказать в помощи кому бы то ни было, даже когда сознавал, что следует отказать... Он доходил до того, что иногда употреблял свои досуги на писание статей для доставления денег людям, вовсе этого недостойным. Его постоянно эксплуатировали самым разнообразным жестоко-возмутительным образом. Последние годы это заставляло его сильно страдать; иногда по этому поводу он говорил даже, что чувствует „тягость существования». Все это удручало его и влияло на его здоровье.
Часть лета 1913 года мы проводили в Сен-Леже (St. Léger en Yvelines) — прелестном местечке на опушке леса Рамбулье. Илья Ильич всегда руководствовался в выборе местности желанием дать мне возможность воспользоваться каникулами для живописи. Сен-Леже вполне подходил для этого. Поля с обширным горизонтом, леса, в тени которых раскинулись роскошные легкие папоротники, ковры мха и вереска всех оттенков, таинственные пруды — все это создавало чудную симфонию, напрашивающуюся на полотно.
Илья Ильич был в обычном бодром, веселом настроении. По утрам он работал, а остальную часть дня мы проводили в лесу. Он читал часто вслух, отдыхал, наслаждался тишиной и лесным воздухом. Казалось, что эта тихая деревенская жизнь ему полезна. Он пользовался каникулярным временем для выполнения давно задуманной работы.
Как я уже сказала выше, исследуя психологическую эволюцию инстинкта жизни, Илья Ильич пришел к выводу, что инстинкт этот развивается очень постепенно, и что рядом с ним развивается и оптимистическое миросозерцание. Ввиду проверки своих личных выводов он интересовался эволюцией других мыслителей и этим летом изучал Метерлинка, как одного из выразителей современного мировоззрения. В молодости Метерлинк отличался мрачным пессимизмом с мистическим оттенком; с годами настроение это уступило место более светлому миросозерцанию. Сам он объяснял такую перемену влиянием внешних обстоятельств. Но Илья Ильич видел в этом более глубокую причину, связанную с постепенным развитием чувства жизни, приводящего к равновесию и оптимизму.
Время тихо протекало в этих занятиях и отдыхе. В конце каникул Илья Ильич чувствовал себя так хорошо, что мы уже радовались запасу новых сил, которых он набрался на зиму. По возвращении в Париж все находили, что у него цветущий вид...
Между тем 19 октября, рано утром, без всякой видимой причины, у него сделался сильнейший сердечный припадок. Войдя в его комнату, я застала его за письменным столом и пришла в ужас, увидав его лицо. Он был смертельно бледен, губы посинели, он тяжело дышал... Тем не менее, он описывал свое состояние:
Севр 19/Х - 1913 т. 7 часов 45 м. утра.
«Сегодня утром, после хорошо проведенной ночи, сердце начало работать хорошо: было 58—59 ударов правильных; но когда я встал, то сразу почувствовал сильнейшую боль вдоль грудной клетки; в то же время сделался сильный припадок тахикардии, подобного которому я никогда в жизни не имел».
Он не мог продолжать, так как припадок усилился, страданья сделались нестерпимыми; но уже через несколько часов после прекращения их он опять взялся за перо, чтобы изложить свое физическое и нравственное самочувствие.
«19/Х 3 часа дня. Припадок продолжался до часу (всего длился шесть часов). По временам боль в груди была невыносима. Жажда побуждала пить (очень жидкий чай), после чего меня вырвало. Чувствовал, что меня мучают газы в желудке и в кишках. К полудню боль стала стихать, но сердце билось часто и ужасно неровно. Чтобы не беспокоить жену, я сел к завтраку, но боялся, чтобы наполнение желудка не усилило припадка. Оказалось как раз наоборот: после первых же глотков (конечно я ел очень мало) боль стала сноснее, и сердце начало биться реже. После завтрака все вошло в норму: боль прекратилась, и сердце стало биться медленнее (78—80) и гораздо правильнее. Перебои стали очень редки, и несколько раз я мог сосчитать сто ударов без них.
«Во все время припадка сознание не обнаруживало ни малейшего ущерба и, что меня особенно радует, я не испытывал страха смерти, хотя ждал ее с минуты на минуту. Я не только рассудком понимал, что лучше умереть теперь, когда еще умственные силы меня не покинули и когда я уже, очевидно, сделал все, на что был способен, но и чувства мои спокойно мирились с предстоящей катастрофой. Последняя не будет для меня неожиданной. Моя мать большую часть жизни страдала сердечными припадками и умерла от них в 65 лет. Отец умер от апоплексического удара на 68-м году. Старшая сестра умерла от отека мозга. Брат Николай (сифилитик) умер на 57-м году от грудной жабы. Сердечная наследственность у меня несомненно плохая. С молодости я страдал от сердца. 33 лет я страдал такими болями в сердце, что по временам не мог сделать несколько шагов без передышки. В 34 года у меня сделались сильнейшие головокружения и ощущение тяжести в голове. Дошло до того, что чтение нескольких строк или даже вывесок на улице вызывало у меня тяжелое ощущение.
«В 1881 году, во время припадка возвратного тифа у меня сделались очень сильные и утомительные перебои, против которых я принимал маленькие дозы наперстянки. После этого у меня периодически бывали приступы перебоев. Особенно сильные периоды перебоев у меня были в 1887, 1894, 1895 и 1896 годах. Под конец я пошел к Вакесу (в декабре 1896 года), но от его лечения не почувствовал облегчения.
«Предположив, что причиною являются яды кишечных бактерий, я решил не есть никакой сырой пищи и от времени до времени принимать «карабанию». Успех этого лечения был очень заметен, и весною 1897 года перебои прекратились. Ко с осени 1897 года меня стала мучить полиурия, от которой я надеялся получить излечение у Альбарана. Последний посадил меня на Контрексевиль1, вызвавший у меня белковую реакцию мочи. В октябре 1898 года я советовался с Ноорденом во Франкфурте и Лейбе в Париже во время выставки 1900 года. Оба не нашли ничего угрожающего. Ноорден мне сказал, что у меня признаки артериосклероза, соответствующие моему возрасту (53 года).
«Посадив себя на смешанный режим с кислым молоком с культурой бомарских бацилл, я несколько лет чувствовал себя удовлетворительно, и только после поездки в Россию в 1909 году у меня обнаружилось резкое ухудшение: в груди, вдоль sternum2 появились острые боли, особенно после еды и ходьбы. В 1911 году снова стали делаться приступы перебоев. В январе 1911 года я советовался с доктором Гейтцом, чтобы узнать, могу ли ехать в калмыцкие степи, где гигиенические условия очень неблагоприятны. Гейтц нашел у меня увеличенное сердце и ébauche de bruits de galop» — артериальное давление по Пешену в 17, —16, —15. Он сказал, что я могу предпринять путешествие и прибавил, однако: «On meurt subitement avec moms que ce que vous avez au coeur»3.
«Путешествие сошло благополучно, хотя я страдал от частых перебоев. и от боли вдоль sternum во время ходьбы. По возвращении здоровье мое сделалось довольно удовлетворительным. Главное, что меня утешало, это моя работоспособность, увлечение в работе и сохранение умственных сил. Но, разумеется, я каждую минуту готов умереть.
«В начале нынешнего лета меня исследовал доктор Манухин и профессор Н. Я. Чистович. Оба нашли сердечные тоны удовлетворительными, но Манухин смутился, найдя у меня первый тон аорты очень слабым, а второй усиленным. Перебои были у меня очень часты, но с нормальными промежутками. Последнее время в этом отношении стало лучше, да и боль вдоль sternum давала себя чувствовать только в экстренных случаях. Готовясь к концу, я радуюсь тому, что предвижу его мужественно, спокойно.
«Перебирая свою жизнь, нахожу, что я провел ее, насколько возможно, ортобиотически. Если может казаться, что смерть в 68 лет и 5 месяцев преждевременна, то нельзя забывать того, что я начал жить очень рано (уже в 18 лет я напечатал первую научную работу), что всю жизнь очень волновался, прямо кипел. Полемика по поводу фагоцитов могла убить или совершенно ослабить меня еще гораздо раньше. Бывали минуты (помню например нападки Любарша в 1889 году и Пфейффера в 1894 году), когда я готов был расстаться с жизнью. К тому же рациональной (с моей точки зрения) гигиене я стал следовать только после 53 лет, когда у меня были уже признаки артериосклероза. Мне удалось порядочно побороть кишечное гниение (фенолы и индолы)1, но я никак не мог и не могу справиться с обильем Clostridium butyricum, который завелся в моих кишках. В общем меня радует сознание, что я прожил не бессмысленно, и меня утешает мысль, что я считаю все свое мировоззрение правильным. Собираясь умереть, я не имею и тени надежды на будущую жизнь, на «аu delà», и я спокойно предвижу полное «небытие».
Возможно, что, начав жить очень рано и живя очень интенсивно, я в 68 лет уже дожил до начала появления инстинкта пресыщения жизнью, подобно тому, как есть женщины, у которых регулы прекращаются гораздо раньше, чем у громадного большинства их.
Ил. Мечников.
„Кажется, что все нужное ввиду конца (завещание, дела и пр. ) у меня в порядке.
„Пусть те, которые воображают, что по моим правилам я должен был бы прожить 100 лет и более, „простят» мне преждевременную смерть ввиду указанных выше обстоятельств 'раннее начало очень кипучей деятельности, очень беспокойный, нервный темперамент и то, что я начал вести правильную жизнь лишь очень поздно).
И. М.».
На следующий день он чувствовал себя так хорошо, что поехал работать в лабораторию. На все уговоры переехать жить в Париж во избежание лишнего утомления, он возражал, что спокойствие Севра, его чистый воздух необходимы для его здоровья, что поездки вовсе не утомляют, а, напротив, доставляют ему необходимый моцион, приятную прогулку. Зная его благоразумие и осторожность, я не решалась слишком настаивать, боясь ошибиться в оценке того, что для него лучше. И жизнь понемногу опять потекла по прежнему...
Илья Ильич постоянно внимательно наблюдал себя: с давних пор уже вел он правильные записи относительно своего физического состояния; он изучал на себе влияние пищевого режима и надеялся, что исследование мочи даст более точные указания относительно ядовитых продуктов, выделяемых микробами кишек. Кроме того он наблюдал на себе эволюцию старческих признаков, седения волос и т. д.
После описанного сердечного припадка он стал также от времени до времени отмечать наблюдения своего душевного состояния.
Вот что писал он 28/15 декабря 1913 года в Севре:
«С тех пор, как я написал предыдущие строки, прошло более двух месяцев, которые провел удовлетворительно, каждый день спрашивая себя, будет ли он последним. Ввиду этого очень торопился написать работу „О холере сосунов» , считая ее интересной. Несмотря на то, что сердечные перебои давали себе чувствовать более или менее часто, все же каждый день бывали периоды, когда сердце билось правильно, обыкновенным темпом, в 56, 58, 66, 72 удара. Третьего дня у меня сделался насморк с небольшой лихорадкой, и я спросил себя, не обратится ли он в воспаление легких. Ввиду этого опять обострился вопрос о возможности близкого конца. Мне было интересно анализировать мои мысли, чувства и ощущения.
«Мне кажется, что у меня под 70 лет потихоньку начинает развиваться чувство пресыщения жизнью, что я назвал «инстинктом естественной смерти».
«Когда осенью 1910 года, делая опыты с тифозными культурами, я обрызгал себе лицо и рот, то я, разумеется, задался вопросом, не может ли от этого последовать заражение. Я облил себе лицо и бороду раствором сулемы и мылом, но все же не считал себя обеспеченным от заразы. Когда я размышлял об этом, мысль мне подсказывала, что заболеть тифом и умереть от него (в моем возрасте брюшной тиф большей частью смертелен; раньше я никогда не болел им и потому не мог считать себя невосприимчивым) было бы хорошо. Хорошо умереть на поле битвы и к тому же в таком возрасте, когда деятельность и жизнь уже кончены.
«Но это были одни рассуждения. Инстинктивно же я чувствовал еще большую потребность жизни, и я с радостью отмечал протекшие дни, удаляющие меня от возможности заболеть тифом. Когда прошли две недели после происшествия, я почувствовал облегчение, считая этот срок предельным для инкубации брюшного тифа. Итак, рассуждение говорило одно, а чувство, инстинкт подсказывали другое. С тех пор, за протекшие три года в моем душевном состоянии произошла перемена. Перспектива смерти меня менее пугает, чем прежде (во время припадка 19/Х я даже вовсе не испытывал страха смерти), и удовлетворение при выздоровлении менее ощутительно, чем бывало раньше. Думаю, что эта количественная разница и составляет первые признаки равнодушия.
«Так как пресыщение жизнью наблюдается иногда у стариков, перешедших за 80 лет, то неудивительно, если начальные его проблески дают себя чувствовать в возрасте под 70 лет, и тем более у человека, подобного мне, начавшего очень рано вести крайне интенсивную жизнь. На эту преждевременность пресыщения влияют еще особенные условия. Между тем как я становлюсь равнодушнее к собственной жизни, у меня в высшей степени становится острым беспокойство о здоровье, жизни и счастье близких мне лиц. В этом отношении особенное горе доставляет сознание несовершенства современной медицины. Несмотря на все ее успехи за последнее время, все же она беспомощна против множества грозящих с всех сторон болезней. Легочные болезни (чахотка, пневмония и пр. ), нефриты и многое множество других болезней еще не могут ни предупреждаться, ни излечиваться. Поэтому испытываешь вечный страх за близких.
«Со временем, когда медицина (в чем я уверен) справится с этими бедствиями, то отпадет одна из больших причин жизненной горечи, но пока этого нет. Поэтому рядом с притуплением инстинкта жизни является примирение с перспективой смерти, как средства не чувствовать бедствий, постигающих близких сердцу. Со временем, когда медицина устранит этот источник несчастья, старость сложится гораздо краше, и жизнь по ортобиозу сделается гораздо более возможной и нормальной. В возрасте между 50, 60 и 65 годами радость жизни, как я описал это в «Этюдах о природе человека» и «Этюдах оптимизма», ощущалась очень сильно; за последние годы она начинает заметно ослабевать. Научная работа еще вызывает у меня неугасимый энтузиазм, но ко многим благам жизни я сделался равнодушным».
И действительно, прежнее радостное настроение покинуло его; в жизнь потихоньку проскользнул глухой, но упорный отзвук похоронного звона... С тем большей энергией работал он над вопросами, которые должны были способствовать достижению нормального жизненного цикла. Всю зиму занимался он кишечной флорой и заканчивал исследования детской холеры.
Весною по поводу дня своего рождения он писал следующее:
«Севр. 16/3 мая 1914 года.
«Сегодня я вступил в 70-й год жизни. Для меня это большое событие. Анализируя свои чувства, все больше убеждаюсь, что «инстинкт жизни» у меня ослабел. Я нарочно слушал те музыкальные вещи, которые прежде доводили меня до слез восторга (как, например, 7-я симфония Бетховена, ария Баха для скрипки и т. д.), чтобы проверить впечатление. Последнее значительно ослабело против прежнего. Несмотря на легкость, с которой плачут старики, у меня не появилось ни одной слезинки за крайне редкими исключениями.
«То же и в других областях. Нынешней весной распускание и цветение кустов и деревьев, проявление оживления природы не вызывало во мне и тени того восторженного чувства, которое я испытывал в прежние годы. Я скорее ощущал грусть, не от предвидения конца моей жизни, а от сознания тяжести существования. О наслаждении жизнью, как в прежние годы, не может быть и речи. Чувством, преобладающим над всеми прочими, является бесконечная тревога из-за здоровья и счастья ближних. Я теперь так хорошо понимаю Петенкофера, который лишил себя жизни в 84 года, после потери всех близких. Он их потерял, очевидно, преждевременно, вследствие несовершенства медицины. Это несовершенство приводит в отчаяние. На каждом шагу видишь случаи, когда ни гигиена, ни терапия не способны помочь. Какая масса туберкулезных, заразившихся неизвестно когда и как! Как помочь этой беде? А последствия кори, скарлатины, даже простой ангины, влекущие за собой нередко туберкулез и нефрит? Какой толк в том, что определение мочевины в крови дает возможность предсказать наступление смерти у больного, одержимого «азотемией», когда нет возможности ни предотвратить ее, ни вылечить!
«Это несовершенство медицинской науки значительно препятствует настоящему ортобиозу, и я понимаю, что при теперешнем ее состоянии чувство «тягости жизни» может наступать очень преждевременно, как у меня.
«Но не подлежит сомнению, что, несмотря на вялость, с какой разрабатывают медицину, последняя в будущем дойдет до степени, когда можно будет не дрожать перед возможностью всяких неизлечимых болезней. Тогда ортобиоз разовьется не в теперешней очень несовершенной форме, а станет действительно прочным и главным содержанием жизни».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. В «НОРКЕ». СМЕРТЬ БАБОЧКИ ШЕЛКОВИЧНОГО ЧЕРВЯ. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ
Неудобство каникул для Ильи Ильича заключалось в удалении от лаборатории и в невозможности при гостиничной жизни следовать своему обычному режиму. Поэтому мы решили нанять дачку в уединенном месте на лоне природы, организовать маленькую лабораторию и устроиться согласно своим привычкам.
Сен-Леже, где мы провели часть прошлого лета, вполне соответствовал всем нашим желаниям. Мы наняли в нем дачу, которую назвали «Норкой», и поселились в ней на время каникул, в июле 1914 года. Илья Ильич был доволен, благодаря тому, что лаборатория давала ему возможность разнообразить занятия и не утомляться исключительным чтением и писанием, как в прежние каникулы. Приведенный своими размышлениями к вопросу о естественной смерти, он давно искал объекта для исследования ее механизма. Раньше он обращался к поденкам, которых рудиментарное устройство ротовых органов обрекает на естественную смерть, так как они не могут питаться. Но слишком кратковременная жизнь этих насекомых — всего несколько часов или дней — не допускает подробного изучения механизма их смерти. Самцы коловраток, лишенные не только развитых ротовых, но и пищеварительных органов, также слишком малы для физиологических опытов над ними. Поэтому оба эти примера естественной смерти были неудобны для изучения ее механизма. Теперь, наконец, Илья Ильич нашел объект, более удобный для этого, в бабочке шелковичного червя (В о m b у х m о г i); у нее также рудиментарные ротовые органы, не допускающие питания, поэтому и она обречена на естественную смерть; но ее размеры и продолжительность жизни — до 25 и даже до 30 дней — позволяют исследовать механизм этого явления. Илья Ильич привез в Сен-Леже множество шелковичных бабочек, которые вскоре в виде белых хлопьев покрыли все камины и столы «Норки». Он нашел, что бабочки умирают вовсе не от голода, так как организм их не доходит до истощения. Они питаются на счет жировых отложений, остающихся после превращения куколки в бабочку. Жировое вещество, всасываясь, дает продукты распада, которые переходят в мочу и обусловливают ядовитые свойства ее. Видимая причина смерти бабочек заключается в самоотравлении такой мочей (она переполняет мочевой пузырь, не выделяясь из него, чем неизбежно вызывает отравление организма). У большинства бабочек Илья Ильич не находил микробов, которые могли бы дать повод приписать смерть бабочек заражению. Единственным теоретическим возражением против «естественной» смерти могло бы быть предположение присутствия невидимых микробов. Этот вопрос „невидимых» микробов, обнаруженных в некоторых инфекциях, сильно угнетал Илью Ильича. Во время своей последней болезни он даже говорил, что это отравило бы его дальнейшую деятельность, как призрак, не дающий права придти к определенному выводу во всех вопросах, решение которых зависит от присутствия или отсутствия микробов.
Последнее слово относительно естественной смерти будет сказано лишь тогда, когда, благодаря усовершенствованию микроскопов и техники, «невидимые» микробы станут видимыми. Однако, насколько можно судить в настоящее время, смерть бабочки шелковичного червя сводится к самоотравлению, связанному не с внешними условиями, а с причинами, заложенными в самом строении насекомого. Поэтому такую смерть можно признать естественной.
Во время каникул этого года, кроме вышеизложенных исследований, Илья Ильич написал воспоминания о своем друге Сеченове, предназначая их для «Вестника Европы». Мы ежедневно, не торопясь, делали довольно длинные прогулки; Илья Ильич читал и отдыхал у своего любимого прудика (Вильпер) в лесной тени и чувствовал себя вполне удовлетворительно. Сильная жара сменилась дождями, после которых установилась удивительная погода. Вся природа точно успокоилась. Появились ковры лилово-розового вереска; хлеба дозревали, шла уборка их; росли стога и золотистые скирды. Все было спокойно и умиротворенно... Такой прелестью веяло в лесу и на полях, так хороша была природа, что только бы наслаждаться ею... Душа уже настроилась ей в унисон... И вдруг, — как молния среди ясного неба, как вихрь, промчалась весть о войне...
За последние годы о ней говорили так часто, что все притупились к этому, и теперь еще накануне казалось, что все «образуется». Но нет, на этот раз этого не случилось.
До последней минуты Илья Ильич не хотел верить, не допускал возможности, чтобы не нашли средства все уладить мирным путем. «Как можно, — говорил он, — чтобы в Европе, стране цивилизованной, не пришли к соглашению без бойни. Война была бы безумием, даже с точки зрения Германии. Ведь против нее три сильнейших державы. Нет, война невозможна». А между тем она, как зарево, охватывала всю Европу. Положение Франции казалось критическим. Страна только что перенесла целый ряд внутренних бурь. Рабочий вопрос, прения о подоходном налоге и о трехлетнем сроке службы возбуждали рознь в парламенте. Убийство Кальметта, дело г-жи Кайо раскрыли глубокие язвы французской политической жизни. Наконец возмутительное убийство Жореса, причина которого была еще невыяснена, — все это вызывало самые черные мысли насчет судьбы Франции. Уже с 28 июля (н. с.), когда Австрия объявила войну Сербии, настроение стало очень тревожным, но еще надеялись, что война будет происходить между этими двумя странами, и что переговоры с Россией уладят дело. Когда же 1 августа Германия объявила войну России, то стало ясным, что гроза надвигается. Картина всей жизни изменилась; наступило всеобщее возбужденное ожидание. Заговорили о мобилизации. Во весь дух мчались автомобили, лихорадочно шла уборка хлебов; уже нельзя было ни работать, ни спокойно гулять, ни любоваться природой без щемящей тоски. Все делалось автоматически, все мысли сосредоточились на одном — на надвигающейся, на неизбежной войне. Все приняло зловещий вид. Сама природа точно наладилась в унисон событиям. Начались грозы; раскаты грома заставляли вздрагивать; тяжелые тучи сталкивались и мчались в гигантской небесной битве, вызывая картину других надвигающихся битв. Всю ночь на 1 августа гроза не прекращалась. Мы совсем не спали. Мимо «Норки» то и дело мчались автомобили со зловещими гудками. Среди ночи, против нас изо всей силы стали стучать в ворота garde générale. Что это? Блеск молнии освещал в темноте верховых с фонарем. Это были уже посланцы с приказом о мобилизации. На другой день она была объявлена. Население потянулось к ратуше. Все были молчаливы, сосредоточены. Если слышны были разговоры, то исключительно о войне, о том, кто уходит. Старики, — те, кто пережили 1870 год, — были глубоко удручены; молодежь скорее казалась возбужденной. Для нас возникал вопрос об отъезде, так как позднее могло быть трудно вернуться в Париж.
В последний раз пошли мы в лес. Был тихий послегрозовой вечер. Все было опять так красиво и покойно, что хотелось не верить в ужасную действительность. Но мы уже прощались со всем, что нас чаровало... Еще раз пошли мы на полянку за «Норкой». Там стояли неубранные снопы и стога; их мягкие золотистые силуэты гармонично вырисовывались на фоне противоположного холма, покрытого ковром лилового вереска. Мы присели в последний раз на этой полянке.
В вечерней тишине вдруг раздались звуки колокола... То не был призывный, отдаленный, поэтический звон церковной колокольни, то не был заунывный, похоронный звон; то был тревожный, властный и зловещий звон набата. Он возвещал всей стране, самым уединенным и маленьким деревушкам и дровосекам в лесах, что мобилизация объявлена...
Ночью опять поднялась гроза. Опять раскаты грома потрясали нервы и казались отголосками отдаленных битв; опять таинственно мчались автомобили и верховые и все, — каждый звук и каждая тень казались зловещими. Не страх испытывали мы, а какое-то нестерпимое нервное напряжение. Впоследствии, гораздо ближе к реальной опасности, мы не переживали более такого болезненного, наэлектризованного состояния.
На следующий день Германия официально объявила войну Франции... Уже с трудом достали мы экипаж, чтобы ехать на станцию. По дороге все время обгоняли нас разнообразные экипажи, наполненные солдатами и провожающими их. Маленький вокзал был переполнен, поезд — тоже.
Общее настроение было возбужденным и повышенным. Кричали: «Vive la France»! и посылали дружеские приветы незнакомым солдатам в поезде. Провожающие женщины силились быть веселыми, ободряя уходивших, и плакали только после их отъезда.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ НЕ НА ОДНОМ ПОЛЕ БИТВЫ
То было лишь преддверьем войны...
Сама она разразилась с головокружительной быстротой и очень скоро дала почувствовать всю свою жестокую, разрушительную силу.
Вернувшись из «Норки», мы уже застали все на военном положении. Илья Ильич на следующее же утро заторопился в лабораторию, но уже с трудом мог добраться до Парижа; все пути сообщения были заняты в связи с мобилизацией. Он ушел из дому нервно возбужденным, но бодрым. Никогда не забуду, каким он вернулся...
Ожидая его, как всегда, у калитки станции и завидя издали, я не узнала его сразу: передо мною был старик, согбенный точно под тяжестью ноши, обычное оживление его погасло и уступило место тяжко-удрученному выражению. Прерывающимся голосом рассказал он, что институт предоставлен военному ведомству и уже совершенно дезорганизован для науки; молодых мобилизовали, лаборатории пусты; животные для опытов, даже человекообразные обезьяны убиты ввиду возможной осады Парижа и недостатка пищи. Все что служило науке, изысканию средств усовершенствования и спасения жизни — все теперь упразднено или должно служить разрушению, и это цивилизация!
Нормальная культурная жизнь рухнула. Илье Ильичу казалось, что он вдруг попал в глубь веков, в эпоху дикости людей. Он не мог примириться с мыслью о возможности такого «падения»; ему казалось парадоксальным, невероятным, чтобы цивилизованные народы не могли обойтись без битв и крови для решения вопросов взаимных отношений. Он несказанно волновался разрастающимися событиями войны и страдал тем более, что не мог уже продолжать научных занятий; он был окончательно выбит из колеи.
Мало-помалу стали приходить вести о том, что убит тот или другой из молодых людей, ушедших на войну; это переполнило горем душу Ильи Ильича: он не был в состоянии мириться с мыслью, ставшей теперь ужасной действительностью, что молодежь, полная жизни, у которой все было впереди, гибнет искупительной жертвой тех, которые должны бы были направлять жизнь народов к миру и разумному существованию, а вместо того кидали в бездну смерти драгоценнейшие силы человечества, его детей, его будущее.
Война сделалась мрачным и тревожным фоном жизни. Не на одном поле битвы ее жертвы. Она подписала смертный приговор и тому, усилия всей жизни которого были направлены к охранению людского существования и к выработке рациональных условий жизни. Резкий контраст его стремлений с жестокой действительностью был ударом, которого не могло перенести его отзывчивое, больное сердце.
Немцы быстро надвигались; наступили тяжелые дни паники; жители массами покидали Париж; правительство переехало в Бордо. По ночам небо пересекали гигантские световые мечи рефлекторов, и был слышен отдаленный грохот пушек. Илью Ильича, однако, вовсе не пугала личная опасность. Он решил очень просто, как нам быть: если институту нужно его присутствие — остаться; если нет — ехать куда-нибудь, где можно работать. Оказалось, что кроме Ру в институте почти никого не оставалось из-за мобилизации; поэтому мы не уехали, а, напротив, временно переселились в Париж, так как сообщения с Севром становились почти невозможными. В день нашего переселения появились первые «таубе»1. Они бросили бомбу поблизости от вокзала, как раз когда мы выходили оттуда. Некоторое время они регулярно появлялись над Парижем почти каждое воскресенье. Несмотря на дезорганизацию всей жизни, Илья Ильич все-таки старался хотя кое-как устроить свои занятия. Он воспользовался случаем наблюдать диабетическую собаку и, как только она погибла, стал исследовать ее еще свежие органы. Он давно думал, что диабет — заразная болезнь. Однако ему не удалось обнаружить при ней микробов; но, привив панкреатическую железу диабетической собаки другой, здоровой, через некоторое время он нашел у нее следы сахара в моче. Этот результат очень поощрил его, но дальнейшая разработка оказалась невозможной из-за общей дезорганизации и трудности доставать животных для опытов. Приходилось ограничиваться заканчиванием статьи о детской холере и дополнительными наблюдениями над смертью бабочки шелковичного червя.
Лишенный почти возможности лабораторной работы, Илья Ильич стал писать сочинение об основателях современной медицины, чтобы на конкретном примере показать значение результатов положительного знания в приложении к жизни. Вот что говорил он в предисловии к своей книге:
«Эти страницы были написаны при особых условиях. Если не под звуки пушечных выстрелов, то в ожидании таковых, мне пришлось провести несколько недель в моей парижской лаборатории, поставленной на военное положение. Последнее сказалось в том, что деятельность Пастеровского института почти совершенно прекратилась.
«Из боязни оставить опытных животных без корма, их убили, лишив работающих возможности продолжать исследования. Сараи института наполнились дойными коровами для молока, доставляемого в больницы и детские приюты. Большинство молодых сотрудников, ассистентов и служителей ушли на войну, и на месте остались лишь женская прислуга и старики. В качестве такового я очутился в невозможности вести далее мои опыты и в обладании продолжительного досужего времени. Последнее я употребил на писание этого сочинения, в надежде принести посильную пользу. Я написал его не для врачей, которые уже знают все, что в нем заключается, а для тех молодых людей, которые зададут себе вопрос о том, куда направить свою деятельность.
«Можно быть уверенным, что безумная война, которая как снег на голову упала вследствие неумения или нежелания людей, поставленных для охранения мира, повлечет за собой продолжительный период спокойствия. Следует надеяться, что эта беспримерная бойня надолго отобьет охоту воевать и драться и вызовет в непродолжительном времени потребность более разумной работы. Пусть те, у кого воинственный пыл еще не остынет, лучше направят его на войну не против людей, а против врагов в виде большого количества видимых и невидимых микробов, которые отовсюду стремятся завладеть нашим телом и помешать нам провести наш нормальный, полный цикл жизни. Достигнутые до сих пор большие успехи новой медицины дают право надеяться, что в более или менее отдаленном будущем человечество избавится от главных постигающих его болезней».
Нарисовав положение медицины до Пастера, Листера и Коха, Илья Ильич сопоставлял его с тем, которое создалось благодаря этим трем основателям современной медицины. В заключение он указывал на широкие горизонты, открытые ими в будущем.
Во время нашего пребывания в Париже, 26 сентября, у него в лаборатории вдруг опять сделался припадок тахикардии, продолжавшийся в течение трех часов. Припадок был гораздо слабее прошлогоднего, но Илья Ильич уже не переставал постоянно иметь в виду возможность внезапного конца. Зима, однако, прошла недурно, несмотря на беспрерывное нервное возбуждение и волнения по поводу войны. Только в апреле у него сделался легкий приступ тахикардии, прошедший очень быстро. Однако в общем он значительно изменился, поседел, походка его сделалась медленной, фигура согбенной, исчезла его кипучая живость, заразительная веселость. Тем не менее в работе он оставался бодрым, деятельным, полным энтузиазма. Характер его становился все ровнее и мягче; он был переполнен сочувствием к окружающим. Маленькие дети на улице называли его «рérе Noёl»2 и доверчиво заказывали ему игрушки к новому году. Они знали его потому, что карманы его были набиты лакомствами для них. Он говорил, что его возрастающая любовь к детям есть расцвет инстинктов «дедушки», возраста которого он достигал. Особенно трогательно любил он одну из своих крестниц, маленькую Лили; он так привязался к ней из-за ее исключительно доброго сердца, мягкости и ласки, которую она выказывала ему с самой колыбели.
Однако его любовь к детям и даже к этой любимой крестнице не доставляла ему более наслаждения; тревога за них преобладала в нем.
Несмотря на физическую перемену, его мысль неизменно, неутомимо работала все с прежней силой. С юношеским пылом приступал он к новым задачам.
Он задумал работы на тему полового вопроса, который, по его мнению, был поставлен неправильно и вносил этим дисгармонию в жизнь. Он приходил к совершенно революционным взглядам на воспитание и на брак. Он думал, что их надо поставить на абсолютно новые начала, и приступал к изучению этого вопроса.
Весною 3/16 мая (1915 г.) наступил его 70 год рождения, что глубоко радовало его, потому что он видел в этом подтверждение правильности своей гигиены; для него это был доказательный опыт. В этот день он еще раз точно вспыхнул ярким пламенем. Вид у него был такой молодой, оживленный, возбужденный, какого давно у него не бывало. Пастеровский институт праздновал его 70-летний юбилей. Хотя из-за войны очень многие отсутствовали, тем не менее в библиотечной зале собралось много народа; празднование носило интимный, очень сердечный характер. Речь Ру по этому поводу останется лучшей характеристикой Ильи Ильича и его деятельности1).
Сам Илья Ильич отвечал на приветствия яркой и оживленной беседой2.
В тот же день он написал в тетради своих заметок:
«16/V—1915 г. Сегодня мне, наконец, исполнилось 70 лет. Я дошел до предела нормальной жизни, определенного еще царем Давидом и подтвержденного статистическими исследованиями Лексиса и Боддио. Я еще способен работать и мыслить. Но изменения в моем душевном складе, которые я заметил год назад, усилились в немалой степени.
«Разница в силе приятных и неприятных ощущений оказывается все более и более. Приятные ощущения ослабевают; я сделался равнодушным к благам, которые прежде были мною очень ценимы. Нечего и говорить, что я сделался равнодушным к качеству пищи. Потребность к музыкальным ощущениям настолько ослабела, что я почти не испытываю желания их удовлетворения. Прелесть весны меня не трогает, а возбуждает грусть. Наоборот, тревога из-за счастья и здоровья близких становится все сильнее Мне трудно понять, как я раньше мог переносить эту тревогу. Сознание бессилья медицины меня все более и более повергает в отчаяние.
«Вдобавок война остановила все работы, направленные на борьбу против болезней.
«Неудивительно, что при таких условиях у меня все более развивается «пресыщение жизнью». В течение прошедшего года (с 16/V 1914 по 16/V 1915 г.) у меня было два приступа тахи-аритмии (25/Х 1914 и 15/1V 1915), по время которых я был бы очень рад перестать жить. Вообще же мое. здоровье удовлетворительно, что поддерживает меня. Что было бы со мною, если бы вдобавок ко всему присоединились болезни. Я положительно теперь не боюсь смерти, но хотел бы умереть во время сердечного припадка, не подвергаясь какой-нибудь тянущейся болезни.
«Моя относительная долговечность зависит не от семейного предрасположения (мой отец умер на 68-м году, мать на 66-м году, старшая сестра на 65-м старший брат в 45 лет, второй брат в 50 лет, третий брат на 57-м году. Я никогда не знал моих дедов. То, что я дожил до 70 лет в сравнительно удовлетворительном состоянии, я приписываю своей гигиене: более 18 лет, я не ем ничего сырого, по возможности засеваю кишки молочнокислыми бактериями. Но это лишь первый шаг. Я отравляюсь маслянокислыми бактериями. Одним словом, я дошел до сокращенного нормального предела жизни, чем уже могу быть удовлетворен. Я, так сказать, выполнил программы «сокращенного, кратчайшего ортобиоза». Когда макробиотика сделается более совершенной, когда хорошая кишечная флора будет засеваться, начиная со времени отнятия детей от груди, то нормальный срок жизни значительно продлится, дойдя, быть может, до предела вдвое большего, чем теперешний — в 70 лет. Тогда и чувство пресыщения жизнью наступит значительно позже, чем у меня.
«Сегодня в Пастеровском институте мне устроили чествование, которое меня очень тронуло, так как, несмотря на мое недоверие к проявлениям добрых чувств, я убедился в искренности последних.
«Я хотел было высказать программу исследований, которые бы следовало исполнить в Пастеровском институте, но боялся отнять слишком много времени у посетителей. Я верю в то, что наука решит все главные задачи жизни и смерти и даст возможность людям проводить их жизненный путь в смысле истинного ортобиоза, не карикатурного и скомканного, как у меня.
«Во всяком случае я считаю, что опыт, который я проделал над собою, уже дал немалый результат. Это доставляет мне чувство истинного удовлетворения».
Летом мы поехали в «Норку», где Илья Ильич заканчивал свои исследования о смерти бабочки шелковичного червя.
Ввиду задуманной работы о половой функции, его интересовало влияние любви на творчество знаменитых людей, и мы читали биографии Бетховена, Моцарта и Вагнера.
Ежедневно делали мы прелестные прогулки, проводили много времени в лесу, читая и отдыхая у прудиков среди вереска, в сосновом бору. Илья Ильич как-то особенно заботился в этом году об удаче каникул, точно уже предчувствуя, что они будут последними. Несмотря на его внешнее спокойствие и ровность, я угадывала в нем постоянную сосредоточенность на невеселой мысли, которой он не высказывал. Только во время последней своей болезни признался Он, что во время наших прогулок мысль о внезапной смерти и о моем одиночестве не покидала его все время этого пребывания в «Норке».
Вот что он отмечал в своих записках:
«St Léger en Yvelines, 24 июня 1915 года.
«Когда я говорил о развивающемся у меня отсутствии страха смерти то я имел в виду отсутствие страха «du néant», т. е. полного небытия. Страх этот, проявляющийся в течение продолжительного периода жизни и в конце ее прекращающийся, можно уподобить боязни темноты, испытываемой детьми инстинктивно и затем само собой проходящей.
«Когда в конце жизни прекращается страх небытия, то не является ни малейшей потребности в переживании, бессмертии души. Наоборот, отвратительно было бы думать, что душа переживает тело и будет на «том свете» видеть бедствия, переживаемые на земле. Наоборот, на закате жизни развивается потребность полнейшего небытия».
Всю осень он собирал материалы, подготовляясь к работе о половой функции. Это несколько отвлекало его от тяжелых впечатлений войны и от грусти, вызываемой опустевшей лабораторией.
Однако новые волнения ждали его: я заболела и не успела оправиться, как мы получили весть о смерти племянника, которого очень любили.
Смерть молодых всегда производила на Илью Ильича глубоко удручающее впечатление; тем более смерть такого дорогого нам юноши.
Все это накладывало новые гири на уже опускающуюся чашу весов.
Он, однако, продолжал работать с энтузиазмом. Он сажал молодые побеги деревьев, тенью которых будут пользоваться новые поколения.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ
«Нет, весь я не умру: душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит».
Пушкин.
В этой тяжкой, последней главе жизни Ильи Ильича я иногда останавливаюсь на подробностях, могущих показаться незначительными сами по себе. Но все до мелочей было значительно в этот период, перед лицом смерти.
Все доказывало последовательность, цельность его идей, их восходящий взмах, гранитную мощь его духа. Если он многому учил и прежде, то теперь тем, как умел страдать и умирать, — он еще учил, давал опору и пример...
Вот почему я свято передаю последние дни его...
В конце ноября 1915 года Илья Ильич слегка простудился, что не мешало ему продолжать ежедневную работу в лаборатории; однако простуда эта была исходной точкой его предсмертной болезни.
Второго декабря он почувствовал такое сильное сердцебиение, что смерть казалась ему близкой. В течение целых часов пульс его оставался крайне неправильным и очень ускоренным. С этого дня он уже не чувствовал себя хорошо, однако продолжал ездить в лабораторию до 9 декабря. Вечером этого дня состояние его настолько ухудшилось, что он вынужден был прервать свой обычный образ жизни.
Вследствие войны все врачи отсутствовали или были так заняты, что не могли приехать в Севр. Только 11 декабря Д-р Ренон мог принять нас во время консультации в больнице Лайнек.
Он нашел сердце переутомленным, нервным; прописал лечение и сказал опять придти через 25 дней для нового исследования. Но болезнь подвигалась гигантскими шагами...
Ночь с 12 на 13 была ужасна. Наступил первый, крайне тяжелый приступ сердечной астмы. Оба мы считали конец близким.
Илья Ильич страдал ужасно, но нравственно оставался спокойным и готовым к. смерти, как был постоянно, с первого сердечного припадка, два года тому назад. Он вновь повторял, что завершил задачу своей жизни и свой жизненный цикл, что все, что он мог бы еще сделать, — было бы лишь второстепенным, что лучше умереть, чем пережить себя самого. Он желал только не страдать слишком долго. Но это скромное желание не должно было осуществиться: пытка уже началась...
Еще две ужасные ночи в Севре, — ночи, которых нельзя забыть, если бы прожить еще целые века.
Мы решили переехать в Париж, в лечебницу. Было немыслимо оставаться столь изолированными при настоящих условиях.
Узнав о болезни, Ру предложил нам переехать в больницу Пастеровского института, где освободилось маленькое помещение вследствие смерти врача, занимавшего его. Доктор Видаль, которого Илья Ильич ценил очень высоко, приехал в Севр 14 декабря и нашел у него миокардит. Это удалось скрыть от Ильи Ильича, благодаря тому, что, по совершенно непонятному явлению, он вдруг перестал отдавать себе отчет в быстроте своего пульса, воспринимая меньше половины сердечных ударов. В действительности их было 160 в минуту. После последней ужасной ночи в Севре мы покинули свое жилье, которое он так любил... В его взглядах украдкой я читала его скрытую мысль, как, быть может, он угадывал мою... Но он казался спокойным, таким усталым, точно согбенным под тяжестью страданий. Опираясь на мою руку, он медленно прошел через садик и в последний раз посмотрел на наше гнездо, которое мы покидали для неизвестного, — было ли это еще неизвестным!..
Я старалась угадать его взгляд. Он был спокойным, ласковым, уже далеким, казалось мне.
Тихо переехали мы в автомобиле из Севра в больницу Пастеровского института.
И вот мы в маленьком помещении молодого врача, умершего на войне. Он провел в этих комнатах лишь короткий этап своей жизни. Сколько времени проведем мы в них? И из них какой путь предстоит нам? С страшно сжатым сердцем старались мы улыбаться, чтобы приободрить друг друга. Но в течение дня нас окружили друзья, полные внимания к Илье Ильичу; мы успокоились немного и почувствовали возрастающую надежду и чувство безопасности. Конец ночам смертельной тоски, одинокой беспомощности. Одна уже мысль эта придавала бодрость и надежду.
В случае надобности, ночью мне стоило спуститься в нижний этаж, чтобы просить придти больничного врача.
В течение нескольких дней Илья Ильич чувствовал себя значительно лучше, быть может под влиянием нравственного успокоения. Но сердце его было слабо, и пульс очень ускорен.
Каждый день его навещали доктора Видаль, Мартен, Вельон, Салимбени и Даррэ. В течение всей его длинной болезни, в течение семи месяцев его страданий (от 2 декабря 1915 года по 2 июля 1916 года), не переставали они окружать его самым преданным, дружеским, внимательным уходом. Они изощрялись в средствах облегчать его муки, так как, увы, не имели надежды спасти его. Ничто не было упущено; советы их избавили его от еще больших страданий1.
Война служила неисчерпаемой темой разговоров. Он читал множество газет, с жадностью слушал рассказы посетителей. Часто разговоры вращались на научных вопросах, продолжавших страстно интересовать его; беседы эти были драгоценным отвлечением. Бесконечно благодарный своим врачам и друзьям, он был примерным пациентом, точно следовавшим всем их советам. Когда состояние его ухудшилось, когда он потерял уже всякую надежду на выздоровление, часто он говорил: «Что делать, врачи бессильны, потому что бессильна медицина. К несчастью, такой она останется еще долго. Много надо будет работать, чтобы избавить человечество от его злейшего бича — болезни. Но, несомненно, настанет день, когда наука достигнет этого, и, главным образом, путем предупредительных мер, рациональной гигиены. Разовьется еще новая наука — наука смерти. Тогда выучатся смягчать ее».
После завтрака и короткого сна он беседовал со своим верным другом Ру; ему поверял он свои тревоги и желанья, во всей интимности дружбы и привязанности. Он питал к нему безграничную благодарность за доброту и заботу, которыми он окружал нас.
Часто говорил он мне со слезами на глазах: «Я хорошо знал, что Ру добр и что он настоящий друг, но теперь только вижу я, какой он удивительный друг».
Другие друзья тоже навещали его, всячески проявляя преданность и стараясь оказать всевозможные услуги. Он имел великое удовлетворение чувствовать себя любимым и согретым атмосферой истинной доброты. Как часто говорил он мне: «Только теперь оценил я в должной мере доброту и сердечность французов. Не забудь хорошенько подчеркнуть в моей биографии, как глубоко чувствую я ее и как бесконечно им благодарен. Я хочу, чтобы они это знали».
Но все заботы, вся преданность не могли остановить неизбежного хода болезни, ни избавить от жестоких мук человека, так постоянно стремившегося облегчить жизнь других. Все, что делали для него, уже было лишь цветами, которыми украшают могилу. А он, бедный мученик, спускался в нее медленно, сознательно, в силу беспощадной и роковой логики вещей...
С самого начала своей болезни Илья Ильич предвидел ее исход. Он жил в постоянном ожидании смерти. Теперь, у порога ее, его душевное равновесие и спокойствие оставалось непоколебимыми точно так же, как и его примиренность, терпение.
После периода относительного улучшения, длившегося до конца декабря, болезнь стала прогрессировать, и почти каждая неделя приносила новый тревожный симптом. Главным образом по ночам коварно подкрадывалась пытка. Уснув довольно быстро, он начинал во сне плохо дышать. Вскоре он просыпался в неописуемом волнении и тоске; пот заливал его голову, шею и грудь; иногда нескольких полотенец нехватало, чтобы поспеть вытереть этот струившийся ручьями пот Дыхание становилось затрудненным; хрипы и свисты в бронхах были ужасающими во время сильных припадков. Он привставал, выпрямлялся, руки его судорожно сжимались, лицо темнело и искажалось от боли: посинелые губы, широко раскрытые глаза выражали бесконечное страдание, он, задыхаясь, глотал воздух и производил впечатление настоящего мученика под пыткой. Наконец наступал раздирающий приступ кашля, и после выделения клейкой, временами кровавой мокроты, припадок постепенно стихал.
Довольно долго нам удавалось смягчать его страдания без помощи наркотиков. Пока у него оставался малейший луч надежды, не на выздоровление, но только на возможность сколько-нибудь сносного существования и работы, он во что бы то ни стало хотел избегнуть пагубного влияния наркоза. Он вдыхал пиридин, эфир, курил сигары Эскуфлер, делал разные ингаляции. После приступа он ел несколько бисквитов, я поливала ему голову, растирала виски и лоб раствором ментола; это успокаивало его, и он мог тогда уснуть.
Но сколько бессонных ночей, сколько ужасающих мук перенес он! Сколько раз призывал он смерть, как избавление. Сколько раз говорил, что решается жить только ради меня. И, несмотря на эту пытку, при первой передышке он всегда находил доброе слово, ласку, даже утешение. Он постоянно возвращался к той мысли, что ему не на что жаловаться, что жизнь его была счастливой, что ему удалось завершить свою задачу и даже достичь инстинкта смерти. Все ежедневно видавшие его признавали его мужество и терпение, все преклонялись перед его душевным спокойствием, но никто не знал степени того и другого, оттого что никто не видел и не переживал этих ужасных ночей... Часто даже, когда его спрашивали, как он провел ночь, он отвечал: «недурно», после ужасной ночи. «Зачем огорчать их, когда все равно помочь нельзя», объяснял он мне потом.
В начале пребывания в больнице он не был еще совершенно пригвожден к постели.
Он одевался, проводил несколько часов полулежа на кушетке или в кресле; читал почти беспрерывно газеты, научные статьи и книги для задуманного труда о половой функции. Но успел он написать только введение и несколько строк
первой главы1.
Другой вопрос, сильно занимавший его во время болезни, касался первенцев. Некоторые данные привели его к мысли, что между ними редко встречаются гении, и он собирал всевозможные сведения на этот счет. В своем постоянном стремлении улучшить жизнь, он даже надеялся, что установление этого факта могло бы иметь благотворное влияние на увеличение народонаселения во Франции после войны; будь доказано, что наиболее удачные дети — не перворожденные, — быть может, французы откажутся от своей системы двух детей, чтобы иметь больше шансов дать родине ценных людей.
Мысли о половой функции привели его к изысканию средства экспериментального изучения бленноррагии2. Ему пришла мысль привить гонококков в глаза новорожденных мышей. Он поручил выполнение этих опытов единственному работающему еще в лаборатории г-ну Рубинштейну. Последний приступил к ним и начал получать благоприятные результаты, но весною покинул Париж, и работа эта осталась незаконченной.
Мозг Ильи Ильича безустанно работал, как только страданья давали ему передохнуть. До самого конца ум его оставался неприкосновенным, ясным, пытливым. Часто говорил он, как далек от всяких мистических поползновений и как уверен, что до конца останется рационалистом. И действительность это вполне подтверждала: верный себе, ни разу, даже в самые тяжелые минуты не чувствовал он потребности искать опоры вне идей и принципов всей своей жизни. Однако душа его была мрачна, переполнена всякими заботами.
Война приводила его в отчаяние. Каждое чтение газет несказанно волновало его. Когда же происходила серьезная битва, как, например, при Вердене, он окончательно терял остаток сна, и волнение его становилось поистине мучительным. Он был глубоко разочарован в немцах. Он всегда питал большое уважение к их науке и верил в их высокую культуру. Их способ мышления во время настоящей войны совершенно сбивал его с толку. Вообще он никак не мог примириться с войной. Он говорил, что ее должны были во что бы то ни стало избежать, и считал всех ответственных лиц виновными в том, что «не сумели или не хотели» сделать этого. «Потому что, — говорил он, — ничто не может возместить всего зла этой безумной войны». Опустевшие лаборатории и прерванная научная работа переполняли его душу грустью. «Все настоящие, великие задачи жизни должны быть разрешены наукой, а она бездействует», говорил он. Его удручали также материальные заботы, так как война принесла в этом отношении большие потрясения. Судьба его мобилизованных учеников постоянно волновала его. Малейшее недомогание тех, кого он любил, приводило его в отчаяние. Его природная крайняя чувствительность теперь еще значительно возросла. Она убивала его и была несомненно одной из причин, доконавших его. Уже совсем больным и слабым он продолжал постоянно думать о других. Пересматривая множество журналов, он всегда имел в виду то, что могло интересовать или быть полезным его окружающим. В течение всей болезни его сердечность и мягкость были поистине трогательны, что не мешало ему с обычной прямотой высказывать свое мнение. Но я замечала, что это никого больше не задевало теперь, все поняли его.
В умственных занятиях искал он убежища от страданий: последние сами служили ему источником наблюдений. Он изучал свою душу и тело, как любой другой объект исследования. Он ежедневно отмечал свои самонаблюдения и внимательно просматривал записываемый мною дневник его болезни.
В течение всей зимы в ходе болезни были постоянные колебания. В конце декабря кашель и затруднение дыхания усилились, и в начале января у него сделалось кровохарканье. Этот первый легочный инфаркт вызвал пассивное воспаление правого легкого. 19 января обнаружился плевритический выпот с той же стороны. Плеврит длился целый месяц: трижды должны были выпускать экссудат из плевры — удалено было три литра жидкости. Каждый раз боялись предупреждать Илью Ильича об этой необходимости; но он принимал ее с величайшим хладнокровием, говоря, что он всегда за радикальные меры. После третьей пункции, 19 февраля, наступило значительное улучшение, длившееся в течение некоторого времени. Быть может, это был единственный период, когда проскользнул кратковременный луч надежды.
Несмотря на то, что Илья Ильич уже не покидал постели, он много работал, читал, принимал не только близких друзей, но и посторонних посетителей.
В первой половине марта и во второй половине апреля снова наступили кровохарканья. Возобновились ужасные, трагические ночи. Однако дни бывали еще довольно сносными. Большое удовольствие доставляло ему за этот период посещение его учеников, получивших отпуск, и русских депутатов. (г. г. Шингарева, МИльюкова и Энгельгардта), русских журналистов Вернера и Немировича-Данченки и позднее профессора Л. А. Тарасевича. Они рассказывали о политике, о войне, о настроении и внутренних событиях в России. Илья Ильич жадно расспрашивал их о самых разнообразных сторонах русской жизни и с величайшим интересом следил за их рассказами. Он был глубоко тронут их посещением, которое часто потом служило темой его размышлений. Это было одним из наибольших удовольствий за время его длинной болезни. Чтобы понять все значение этих свиданий, надо иметь в виду, что с самого начала войны мы совершенно не имели прямого общения с Россией.
В течение всего мая опять бывали колебания в его состоянии; но теперь уже ухудшение делалось явным. Пульс не переставал быть крайне ускоренным; количество мочи все уменьшалось; ноги больше не опухали, одышка и кашель становились сильнее, даже днем.
Илья Ильич с большим нетерпением ждал своего дня рождения. Сколько раз ночью, после томительного припадка, начинал он считать дни, часы и минуты, отделяющие его от этого дня. Наконец наступило 3/16 мая. Вот строки, которые он прибавил в этот день к своим прежним заметкам.
16 мая 1916 года. Против ожидания я дожил до сегодняшнего дня. Мне исполнилось 71 год. Моя мечта умереть быстро, без тянущейся болезни, не осуществилась. Вот пять слишком месяцев, что я пригвожден к постели. После нескольких припадков тахикардии, небольшого гриппа с одышкой, у меня сделалось «congestion pulmonaire»1 с плевритическим выпотом. У меня трижды извлекали по одному литру этого выпота. Хотя после этого наступило облегчения, но, несмотря на это, меня мучают припадки пота и следующие за ним одышка и кашель. Особенно припадки эти мучительны по ночам, обусловливая бессонницу, от которой меня спасает лишь пантопон.
«Душевное мое состояние двойственное. С одной стороны, я очень желаю выздороветь; с другой же стороны, я не вижу толка в дальнейшей жизни. Болезнь не вызвала у меня страха смерти, и я больше чем прежде лишен чувства наслаждения жизнью. Пробуждение весны оставляет меня совершено равнодушным. О наслаждении, которое испытывают на пути к выздоровлению, как и вообще о наслаждении, не может быть и речи. К бедствию, испытываемому мною от несовершенства медицины по отношению к моим близким, присоединяется чувство этого несовершенства по отношению ко мне самому. Я думаю, что в моем желании выздороветь и продолжать жить играют роль отчасти практические обстоятельства. Война расстроила финансы; доходы из России значительно уменьшились. В случав моей смерти положение жены может очень стесниться, что при ее непрактичности может повести к очень печальным последствиям. Ликвидирование имущества до прекращения войны и до восстановления нормальных условий прямо немыслимо».
Это были последние заметки, написанные Ильей Ильичом собственноручно, карандашом, уже дрожащей рукой... Он слабел, быстро утомлялся, так что в дальнейшем диктовал мне. Он сделал это в последний раз 18/5 июня, ровно за месяц до своих похорон.
Вот что диктовал он:
«18/5 июня 1916 года. Моя болезнь, тянущаяся уже 7-й месяц, не может не наводить постоянно мыслей на серьезность моего положения. Я поэтому отдаю себе постоянно отчет о чувстве удовлетворения жизнью, которое испытывал за свои долгие годы. Несколько лет уже начавшее появляться отмирание жизненного инстинкта становится теперь определеннее и рельефнее. «Наслаждение» составляет уже удел прошлого; я не испытываю больше той степени «удовольствий», которую ощущал еще немного лет тому назад. Любовь к самым близким теперь гораздо сильнее выражается в тревогах и страданиях о их болезнях и горестях, чем в удовольствии от их радостей и нормальной жизни. Лица, которым я излагаю свои чувства, возражают, что пресыщение жизнью в моем возрасте (71 г. ) не должно быть нормальным. На это замечу им следующее: продолжительность жизни, до известной степени, по крайней мере, связана с наследственностью. Я уже упоминал раньше, в беседе на моем 70-летнем юбилее, что мои родители, сестра и братья умерли раньше моего настоящего возраста. Дедов своих я никого не знал, что указывает на то, что они умерли не очень старыми. Обратимся теперь к профессии, так как известно, что она влияет на продолжительность жизни. Пастер умер 72 слишком лет, но уже давно он сделался неспособным к научной работе. Кох дожил до 67 лет; другие бактериологи (Дюкло, Нокар, Шамберлан, Бухнер, Эрлих, Лефлер, Пфейффер, Карл Френкен, Эммерих, Эшерих) умерли, будучи значительно моложе меня. Из оставшихся бактериологов моего поколения большая часть прекратила научную работу. Все это может служить указанием на то, что моя научная жизнь окончилась, и подтверждением того, что мой ортобиоз действительно достиг желанного предела».
Он постоянно настаивал на том, что преждевременный, с первого взгляда, конец его нисколько не противоречит его теориям, но объясняется глубокими причинами, как наследственностью, с одной стороны, а с другой — слишком поздним применением рационального режима: он стал строго следовать ему лишь с 53-летнего возраста. Вскрытие вполне подтвердило его мнение: патологические изменения его сердца оказались очень давнего происхождения. Сам он думал, что они относились, по крайней мере, к 1881 году, когда у него был сильнейший возвратный тиф. Врачи даже спрашивали себя, как мог он столь долго жить с таким больным сердцем. Они объясняли себе это лишь строгим и правильным режимом, которому он следовал в течение последней части жизни. Если же принять во внимание его страстный темперамент борца, его постоянно-кипучую, лихорадочную деятельность, интенсивную чувствительность, то поистине можно признать, что жизнь его соответствовала значительно более длинной обыденной жизни.
Он желал, чтобы пример его душевного спокойствия перед лицом смерти служил утешением, ободрением, доказательством того, что, заканчивая жизненный цикл, человек перестает бояться смерти, что она теряет свое жало для него.
С самого начала июня состояние его еще ухудшилось. Ночи стали до того тяжкими, что уже каждый вечер приходилось прибегать к пантопону. С величайшим нетерпением поджидал он своих «милых» Даррэ и Салимбени, как называл их. После того как Даррэ самым подробным, добросовестным образом заканчивал врачебный осмотр, мы втроем усаживались у кровати Ильи Ильича и беседовали приблизительно в течение часа. Когда он еще не был слишком утомлен, то часто рассказывал свои личные или научные воспоминания; говорили о войне, о медицинских вопросах; часто также вспоминали мы наше общее с Салимбени путешествие в калмыцкие степи.
Мы любили этот тихий час; он заканчивался самым большим благом, которое, — увы! — можно было доставить страдальцу, — впрыскиванием пантопона.
Илья Ильич всегда трогательно благодарил Даррэ за эту услугу; тотчас затем утомленная голова его падала на подушку, и он выжидал блаженное ощущение теплой тяжести, замирания — предвестников сна, отдыха от страданий. Призрак трагических ночей не переставал преследовать нас.
До появления жаркого времени Илья Ильич отлично чувствовал себя в маленьком помещении Пастеровской больницы. Температура в нем была необыкновенно ровной в течение всей зимы. Но теперь жара начинала беспокоить его. Тогда д-р Ру предложил перевести нас в бывшую квартиру Пастера, в самом институте, где комнаты были гораздо просторнее, свежее. Илья Ильич был очень обрадован этому проекту и тронут заботливостью Ру. С волнением благодарил он его и сказал: «Смотрите, как жизнь моя связана с Пастеровским институтом; долгие годы работал я в нем; провел в нем свою болезнь... Чтобы окончательно закрепить связь, надо бы сжечь мое тело в печи, где сжигают опытных животных, и сохранить мой пепел в каком-нибудь сосуде на одном из шкафов библиотеки». «Что за похоронная шутка», ответил Ру, приняв действительно слова эти за таковую. Но тотчас по его уходе Илья Ильич обратился ко мне с взволнованным взглядом: «Ну, что ты скажешь о моем предложении?». По его пытливому выражению я поняла, что он вовсе не шутит, а, напротив, дорожит своей мыслью. Поэтому я сказала ему, что она очень хороша. Пастеровский институт стал его убежищем, центром его научных интересов; он любит его; он провел в нем свои лучшие годы; со всем этим прошлым вполне гармонирует, чтобы пепел его хранился там... Будем только надеяться, что случится это еще не скоро. Но отчего придал он своим словам шутливый тон, который мог ввести Ру в заблуждение? Вот как Илья Ильич объяснил это. Он знал, что Ру человек долга; если бы он высказал свое желание в форме последней воли, то этим самым обязал бы его выполнить ее. Между тем форма простой шутки предоставляла ему возможность поступить свободно, по своему усмотрению...
26 июня Илью Ильича перенесли в бывшую квартиру Пастера. Это доставило ему очень большое удовольствие: он был ближе к своей лаборатории. Изредка он еще надеялся вернуться в нее, говорил, что я буду возить его туда в кресле на колесах.
«Я знаю, что вряд ли смогу больше работать самостоятельно. Но, быть может, я смогу еще служить ферментом для моих учеников, быть им полезным своими советами. Я оставил столько работ незаконченными, а между тем их так интересно было бы разработать. Вопрос о кишечной флоре, диабет — несомненно инфекционная болезнь; но это надо доказать, а мои опыты едва начаты. Я думаю, что изучение бленноррагии даст очень интересные результаты, когда добьются возможности прививать ее новорожденным животным. Туберкулез стоит на хорошем пути... Я бы мог еще поддерживать и Ободрять своих учеников, если бы мне стало немного лучше. Но не надо делать иллюзий. Жить можно уже только изо дня в день».
С какой раздирающей сердце примиренностью говорил он это.
Ухудшение возрастало. К счастью, пантопон доставлял ему, по крайней мере, хорошие ночи, потому что припадки удушья наступали уже по несколько раз в день. Тахикардия была беспрерывной; сердце слабело; количество мочи уменьшалось; часто она уже еле достигала 250 куб. см, и никакие мочегонные не были в состоянии увеличить ее количество. Ноги больше не опухали; водянка становилась явной; часто по ночам наступал легкий бред.
В начале июля Илья Ильич выразил желание сидеть в кресле и проводил таким образом часть послеобеденного времени. Мы считали это хорошим признаком; в действительности же он не мог больше дышать лежа. Несколько раз просил он меня поиграть ему что-нибудь очень тихое, - громкие звуки утомляли его. Я играла Бетховена, Моцарта, в последний раз одну прелюдию Шопена; но это волновало его, и я перестала играть.
9 июля температура вдруг опустилась до 35, 2... Впервые не захотел он больше записывать своих ежедневных заметок. «К чему, — сказал он, — это не имеет больше интереса». Однако на следующий день он записал их в последний раз; 11-го и 12-го он еще отметил свою температуру, а три последних дня жизни только поверхностно пробегал записанную мною. 12-го, около 5 часов, сидя в кресле, он вдруг почувствовал сильное удушье, закашлялся и отбросил большой сгусток очень красной крови...
«Понимаешь, что это значит», — сказал он, грустно улыбаясь и ласково успокаивая меня... Я отвезла его в кресле к кровати... Он лег, чтобы больше не встать... 13-го с самого утра он чувствовал себя очень плохо. Крайне спокойно и нежно настаивал он на том, чтобы я была готовой. «Я уверен, что это случится сегодня или завтра», — говорил он. В отчаянии я спрашивала его, отчего он так думает. Чувствует ли слабость, томление. «Нет, — отвечал он, — мне трудно описать свое ощущение. Я никогда не испытывал ничего подобного; это, так сказать, смертельное чувство... но я совершенно покоен и нисколько не боюсь. Ты будешь держать меня за руку, правда?».
Как описать, чем были эти три последние дня! Он сохранял полнейшую ясность мысли и непоколебимое спокойствие. Часто он молча тихо улыбался мне и привлекал к себе. Он постоянно должен был вдыхать кислород, так как удушье становилось беспрерывным.
14 июля давали оперу «Манон Леско» в утреннем представлении. Крестники Ильи Ильича давно желали увидеть эту оперу, и он поручил взять им билет на представление. Теперь он волновался: «Ах, какая неудача, — говорил он, — лишь бы это не случилось раньше и не помешало им пойти в оперу. Во всяком случае не надо, чтобы их приводили сюда до представления: если это случится, они не будут знать и спокойно получат удовольствие».
Благодаря пантопону он провел очень хорошую ночь. С пяти часов он уже проснулся, но лежал так спокойно, что я думала, он спит. Когда около 6 часов я стала вставать потихоньку, чтобы не разбудить его, он протянул мне руку и сказал, что давно проснулся. Нежно стал он говорить мне ласковые, навсегда незабвенные слова. Он вновь требовал, чтобы я обещала ему пересилить свое горе. «Первое время друзья поддержат тебя, а потом работа — спасенье от всех бед, а потом — долг. Прежде всего ты должна будешь писать мою биографию. Помни, что я настаиваю особенно на последней главе... Ты одна можешь это сделать, потому что была неотлучно со мною, и тебе одной я поверял все свои мысли... И тебе даже это будет почти непосильно»... Я поняла, что из жалости он иногда скрывал от меня свои страдания и слишком грустные мысли. Он не знал, как часто я угадывала то, о чем он молчал. Немой язык страданья и любви — красноречивее всех слов людских. «Ты меня будешь держать за руку, когда наступит время» — повторял он. «Но не думай, что теперь, когда смерть близка, я боюсь ее, нет, уверяю тебя, у меня полнейшее спокойствие духа... Я провел сегодня божественную ночь... Ночь эта многому научила меня... Мне казалось, что я уже наполовину вне жизни... Все, что меня мучило, все, что так волновало и казалось таким важным, как, например, эта война, — теперь кажется мне таким преходящим, таким ничтожным, сравнительно ничтожным с великими задачами бытия... Наука разрешит их когда-нибудь»... Он замолчал; очень высокое чувство, казалось, озаряло его. То был как бы последний аккорд его прекрасной души... Какое утешение, если бы он умер в это мгновение... Но жизнь жестока: он прожил еще два мучительных дня.
Все 14 июля он почти беспрерывно должен был вдыхать кислород. Он просил, чтобы ему еще впрыснули пантопон. Но доктора не соглашались. Я утешала его тем, что это вызвало бы такой постоянный сон, что он не был бы в состоянии наслаждаться им.
«Да ведь мне именно нужен вечный сон. Пойми, что теперь мне только и остается, что пантопон, пантопон и еще пантопон. Зачем стараться продлить меня? Разве это жизнь? Несколько дней, месяцев дольше не имеют значения, когда нельзя выздороветь. А ты же не можешь желать продлить мои мучения».
Удушье усиливалось. Он теперь постоянно повторял: «Дай руку, не отходи от меня». Я хорошо понимала, что это значит: им овладевало «смертельное чувство» . Его бледные руки были теплы, и он грел мои холодные руки. На другой день я не могла уже согреть его навсегда похолодевших рук... Весь день с нетерпением ждал он впрыскивания пантопона. Когда в 9 часов вечера вошел Даррэ, он сказал: «Наконец этот милый Даррэ». В этот вечер более не беседовали; он был так обессилен: с каким томлением я ждала последнего полуночного боя часов, долженствующего заключить эти два дня, относительно которых он высказал свое ужасное предчувствие.
Но он ошибся едва на один день. Ночь прошла недурно, несмотря на хрипы и кашель. На следующее утро он чувствовал себя лучше. Накануне он не хотел читать газет; в это утро он попросил, чтобы я прочла ему только сообщения с театра военных действий в «Petit Parisien». Он перелистывал даже начатую книгу «Наука и немцы». Я говорила ему, как счастлива, что ему сегодня лучше. «Правда, — ответил он, — сегодня у меня нет «смертельного чувства», но умоляю тебя, не обманывай себя». Он все еще хотел подготовить, смягчить удар... Потом он сказал принести сумочку с нашими деньгами и несколько конвертов. В каждый из них он велел положить деньги одинаковой стоимости. Затем уже совсем дрожащей рукой сам надписал карандашом на каждом конверте число заключенных в нем денежных бумажек, помноженное на стоимость их. Он объяснил, что делает это, чтобы облегчить мне скорее отыскивание нужных денег после катастрофы... За завтраком он ел лучше, чем в последние дни; но уже около двух часов удушье возобновилось. Однако вид у него был недурной. Он сохранял свою обычную белизну и румянец. Вдыхая кислород, он вдруг вздрогнул всем телом, и у него сделалась икота, он сжал мою руку... «Это конец. Это предсмертная икота. Так умирают», — прошептал он. Часы его на ночном столике показывали четыре. «Нет, — сказал он, — они остановились. Давно уже пробило четыре». — Он улыбнулся: — «Странно, что они остановились раньше меня, пошутил он, пойди посмотри, который час». Было 4 часа 40 минут.
Встретив в коридоре кого-то, я просила сбегать скорее за доктором. Затем я умоляла Илью Ильича не представлять себе ужасов и старалась ободрить его. «Дитя мое, да зачем же ты успокаиваешь меня? Я ведь вовсе не волнуюсь, а просто констатирую факт», сказал он мне с нежной лаской. В эту минуту вошел Салимбени. Илья Ильич обратился к нему: «Салимбени, вы — Друг, скажите — это конец?». На его возражение он только сказал: «Помните свое обещание. Вы меня вскроете. И обратите внимание на мои кишки. Мне кажется, что теперь в них дело».
Вошли Ру и Мартен. Заговорили об ощущении тяжести в кишках, испытываемой Ильей Ильичем, и о том, что надо сделать против этого. Он не знал, что у него водянка брюшной полости...
Поглощенная нужным ему уходом, я почувствовала, что он сделал сильное движение. «Умоляю тебя, не делай таких резких движений, ты знаешь, что это тебе вредно», – сказала я... Он не ответил. Я подняла глаза.. Голова ею была опрокинута на подушку, лицо посинело, глаза закатились под полузакрытые веки... Ни слова, ни звука... Все было кончено...
Потом бездна... бессознательное...1
Я вновь увидела его на смертном одре. Он был весь бледный, холодный, немой... Выражение его было спокойно и очень серьезно. Он походил на мученика, вступившего в вечный покой. Смерть не наложила печати ужаса на его лицо. Веки его закрылись сами собой. Он точно уснул после сильной усталости. Казалось, он и теперь по обычной доброте хотел избавить окружающих от слишком тяжелого впечатления. Всю ночь и все следующее утро он сохранял то же выражение. После полудня Салимбени сделал вскрытие. Затем его положили в гроб. Прошло 24 часа с минуты смерти.
Завернутый в белый саван, обрамляющий его прекрасное лицо, сам весь белый, он имел вид библейского пророка... Теперь он весь выражал полнейший душевный покой; лучезарная доброта и мягкость озаряли его.
Возвышенность, величие, сверхъестественная божественная красота светились в его лице... Это был апофеоз. Его прекрасная душа проявлялась во всей своей чистоте; ни страдание, никакая земная забота уже не имели власти над ним. Он производил впечатление вечного покоя, как высочайшие вершины снежных гор... Это был его конечный образ, чудный последний, навсегда... И вот закрытый гроб под тяжелым, черным покровом.. На жизнь тоже упал еще более мрачный тяжелый покров. Свет погас.
Через день, 18/5 июля, мы отвезли его на кладбище Рérе Lachaise, для сожжения, со всей простотой, как он того хотел. Верный своим убеждениям, он желал гражданских похорон без речей, без почестей, без цветов.
Гроб скрылся в громадном саркофаге. Черные завесы спустились по обе стороны его, чтобы скрыть, что будет происходить за ними... Затем бесконечный час молчания, пока пламя поглощало бедное тело...
Молчание смерти...
Все кончено... Маленький мальчик — «живое серебро», добрый, умный, так рано проявивший высокое призвание, пылкий отрок и юноша, восторженный, страстный к науке и всему возвышенному; в зрелом возрасте — мощный, отважный, независимый мыслитель, неутомимый искатель, всегда отзывчивый, благородный, нежный и преданный; в старости оставшийся во всем верным себе, умиротворенный, точно озаренный мягким светом заходящего солнца... И вот, наконец, страдалец, мученик, сознательно идущий по своему торному пути, терпеливо и примиренно; смотрящий смерти в глаза без страха, как мудрец, наблюдая ее, как он наблюдал и жизнь.
Кончен час молчания... Завершено сожжение... От тела осталось так мало, – едва несколько горстей пепла.
Его заключили в урну и поставили в библиотеку Пастеровского института...
Но его пылкая душа, его дерзновенная, плодотворная мысль, вся эта богатая, внутренняя жизнь, развившаяся в мощную симфонию, полную гармонии — все это не может умереть, не может исчезнуть…
Идеи, влияние, оставленные в жизни, не умирают. Они должны жить, они — священное пламя, неугасимое, вечное.
ЭПИЛОГ
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
Пушкин.
Жизнь и творчество Ильи Ильича так тесно связаны между собою, что разобщить их невозможно. Поэтому в описании его жизни изложение его научных работ неизбежно было раздробленным. Когда закончено художественное произведение, надо отойти и бросить на него общий взгляд, чтобы оценить в целом, — так и здесь: теперь, когда биография окончена а, с нею и последовательное развитие научных работ Илья Ильича, — надо бросить общий взгляд на созданное им.
Он был прирожденным биологом. Жизнь существ занимала его. С раннего детства наблюдал он ее в растениях и животных. В 15 лет, впервые познакомившись с микроскопическим миром, он так заинтересовался проявлением жизни в ее простейшей форме, что тут же была заложена не только его будущая деятельность, но и характер его метода исследований — исходить от наиболее простого для разъяснения сложного.
Проникнутый эволюционными идеями Дарвина и начав свои научные исследования с низших животных, он стал искать их связи с другими группами и стремился установить непрерывность и общность явлений у всех живых существ.
Следуя своему методу упрощения, он обратился к эмбриологии, так как в яйцевой клетке и в зародыше можно следить шаг за шагом за превращением простого в сложное и воочию наблюдать происхождение и развитие всех составных частей организма. К тому же зародыш свободен от вторичных усложнений, вызываемых многообразием внешних условий.
И вот на эмбриологических данных Илья Ильич установил, что развитие низших животных совершается по тому же плану и следует тем же законам, как и у высших.
У всех после сегментации яйцевой клетки образуются зародышевые пласты, каждый из которых дает начало определенным клеткам и органам. При этом высшие формы в своей эмбриональной жизни проходят, в общих чертах, весь цикл эволюции низших1.
Эта общность плана развития всех звеньев цепи животных подтверждала непрерывность связи между ними, — следовательно эволюционную теорию Дарвина.
Своими сравнительными исследованиями зародышевой жизни разнообразных групп животных Илья Ильич способствовал обоснованию сравнительной эмбриологии.
Благодаря методу сопоставления всех ступеней животного царства он близко освоился с морфологической и функциональной связью не только организмов, но и клеток, входящих в состав их. Сравнение последних с простыми одноклеточными вытекало само собою. Поэтому, когда он увидел, что подвижные клетки низших многоклеточных поглощают посторонние тела, то для него аналогия этого явления с пищеварением одноклеточных была совершенно ясна и естественна.
Установив факт внутриклеточного пищеварения низших многоклеточных2, он также естественно перенес этот вывод и на клетки высших животных, из чего и возникла его фагоцитная теория.
Под влиянием наблюдения того, как одноклеточные организмы и подвижные клетки низших многоклеточных поглощают не одну пищу, но и другие посторонние тела, он спросил себя, не есть ли это одновременно акт защиты организма. Для зоолога в этом не было ничего удивительного, так как в животном мире борьба за существование постоянно сопровождается поеданием врага.
Весь строительный материал фагоцитной теории был, таким образом, готов в уме Ильи Ильича, когда ему, как бы по интуиции, пришла в голову мысль, не играют ли и белые кровяные шарики нашего организма, столь похожие на амебу, роль защитников, когда скопляются в виде гноя вокруг внедрителя, например занозы.
Эта мысль была лишь результатом уже совершившейся подготовительной работы: яркая бабочка вылетела из созревшей куколки.
Чтобы ответить на поставленный себе вопрос, Илья Ильич опять обратился к своему упрощающему методу исследования.
Так как у высших животных явления затемнены сложностью организма, то он спустился к прозрачной личинке морской звезды, на которой легко проследить воочию все внутренние процессы. Занозив ее шипом розы, он увидел, как через некоторое время подвижные клетки стали толпой скопляться к занозе, подобно тому, как армия устремляется навстречу врагу. Аналогия этого процесса с воспалением и нагноением при образовании нарыва была разительна. Так как большинство болезней высших животных сопровождаются воспалением и так как главные наши внутренние враги — микробы, то он, естественно, предположил, что именно против него и должны бороться белые кровяные шарики, являясь, таким образом, защитниками организма; он назвал их фагоцитами.
Гипотезу свою он подтвердил другим, не менее простым наблюдением над прозрачной мелкой ракообразной дафнией, зараженной паразитическим дрожжевым грибком. Здесь опять он мог наглядно проследить весь ход борьбы подвижных клеток в организме дафний с паразитами.
Эти два простых опыта послужили фундаментом для моста, переброшенного им между нормальной и патологической биологией. Вступив в область последней, он стал изучать различные микробные болезни и спросил себя, отчего в иных случаях организм восприимчив к ним, а в других — нет. Для выяснения он опять обратился к низшим животным, у которых легко наблюдать внутренние и притом упрощенные процессы.
Он нашел, что при восприимчивости микробы берут верх в борьбе, наводняют организм и губят его; наоборот, когда одолевают фагоциты, поглощая и переваривая микробы, то организм остается здоровым и невосприимчивым.
Искусственная невосприимчивость точно также приобретается благодаря тому, что предохранительные прививки постепенно приучают фагоцитов переваривать микробы и их яды. Всем этим он установил, что фагоцитоз и воспаление – целебные силы организма.
Дальнейшие его исследования микробов, различных свойств и категорий фагоцитов и их пищеварительных соков, образования антитоксинов, других приобретенных свойств крови и. т. д. — были естественным развитием этих положений. Кроме того Илья Ильич показал, что, помимо борьбы с микробами и их ядами, фагоциты очищают организм от всех ослабевших или омертвелых клеток его, и что атрофии не что иное, как поедание фагоцитами клеточных элементов.
Найдя, что старческие атрофии зависят от уничтожения фагоцитами ослабевших клеток, он спросил себя: отчего же зависит это ослабление? И обнаружил, что одна из главных причин его заключается в хроническом отравлении ядами кишечных микробов. Из этого явствовало, что преждевременная старость — такое же патологическое явление, как и болезни. Придя к выводу, что источник зла заключается в кишечной флоре, он приступил к изучению последней, так же как и старости, для борьбы с ними.
В результате этих исследований он наметил ряд средств, основанных, с одной стороны, на борьбе против микробов, с другой — на воздействии на клеточные элементы организма1.
Исследование старости привело его к исследованию сифилиса, как болезни, вызывающей артериосклероз, подобный старческому, а изучение нормальной кишечной флоры — к изучению патогенных кишечных микробов (тиф, детская холера).
Наконец он приступил к конечному, к самому таинственному явлению природы, — к смерти.
На бабочке шелковичного червя, одном из редких примеров естественной смерти, он показал, что последняя, по-видимому, зависит от самоотравления организма.
Но он едва успел приподнять завесу великой тайны. Это была его последняя работа.
Параллельно с научными исследованиями совершалась и эволюция философского миросозерцания Ильи Ильича. Изучая законность и цельность жизненных явлений, он не мог не видеть, что гармония их, однако, бывает нарушена столкновением внутренних условии с внешними, и что нарушение это не проходит безнаказанно. Таков пример природы человека, полной дисгармонии, основанной на его животном происхождении. В годы молодости Ильи Ильича вывод этот вызывал в нем пессимистическое мировоззрение. Но его энергичная природа борца не могла остановиться на пассивном признании факта.
Он стал изучать дисгармонии природы человека и их причины, стал искать средства борьбы с ними.
Он пришел к выводу, что главная из наших дисгармоний вызвана нарушением нормального жизненного цикла, — преждевременными старостью и смертью, зависящими прежде всего от хронического отравления ядами кишечных микробов.
Убедившись, однако, в возможности изыскания средств борьбы с этим отравлением, он пришел к выводу, что наука, сделавшая уже так много в борьбе с болезнями, даст нам и средства победить преждевременные старость и смерть и восстановить естественный жизненный цикл — ортобиоз; тогда наступит гармония, и величайшее зло исчезнет.
Эта вера в силу знания и возможность благодаря ему изменить даже самую нашу природу легла в основу оптимизма зрелых лет Ильи Ильича. Яркими путеводными звездами светятся следующие мысли его оптимистической философии:
«Только наука способна решить задачу человеческого существования, и поэтому ей нужно предоставить самое широкое поле деятельности в этом направлении. Только положительное знание способно вывести человечество на верный путь».
«Настоящая цель человеческого существования заключается в деятельной жизни, соответствующей личным способностям, — в жизни, длящейся до появления «инстинкта смерти» и до тех пор, когда человек ощущает удовлетворение продолжительностью своей жизни и начинает желать небытия».
«Человек способен на великие дела; вот почему следует желать, чтобы он видоизменил человеческую природу и превратил ее дисгармонии в гармонии».
«Если мыслим идеал, способный соединить людей в некоторого рода религию будущего, то он не может быть обоснован иначе, как на научных данных. И если справедливо, как это часто утверждают, что нельзя жить без веры, то последняя не может быть иной, как верой во всемогущество знания».
Итак, исходя от изучения зарождающейся жизни простейших, Илья Ильич в непрерывной логической связи проследил весь цикл развития существ в их последовательности и единстве. Исходный факт внутриклеточного пищеварения привел его непрерывной цепью к высшим вопросам духа — борьбе с дисгармониями человеческой природы посредством знания и воли.
Таково стройное здание, воздвигнутое им. Никакие вопросы жизни не были чужды ему. Он смело приступал к самым великим и таинственным из них, потому что его неудержимо влекло стремление к познанию правды, а вера в силу знания воодушевляла и поддерживала его.
Красота художественного произведения заключается в гармонии и цельности выполнения задуманного.
Так, готический храм всеми своими стройными линиями выражает порыв ввысь; он прочно опирается на землю лишь для того, чтобы устремиться выше к небу.
Таков и характер творчества Ильи Ильича.
1 Как вам идет ваше имя.
1 „Спокойный папаша".
2 „Господин ртуть".
1 Об этом эпизоде упоминаю согласно желанию Ильи Ильича. Эпизод этот остался для него укором совести. К тому же Илья Ильич всегда говорил, что в биографии не следует умалчивать ни о чем дурном.
1 Воспаление тазобедренного сустава.
1 Blagueur — враль.
2 Хроника молдавского летописца Ивана Никулсеа (Jean Niculcea).
1 Круглые черви.
1 Весь этот эпизод был описан в отдельной брошюре Ильей Ильичом в 1866 году.
1 Илья Ильич находил, что Фрица Мюллера недостаточно оценили: он первый на конкретных фактах разработал эволюционную теорию Дарвина и этим существенно способствовал установлению ее гораздо раньше и глубже Геккеля.
1 Ковалевский нашел, что у асцидий нервная система эктодермального происхождения, а Илья Ильич — энтодермального. Позднее он сам убедился, что Ковалевский был прав.
1 У него занимались тогда Грибницкий, будущий начальник Командорских островов, и Чирьев, будущий профессор физиологии.
1 В январской книжке „Природы» за 1917 год приведен этот доклад (С. Я. Штрайх, стр. 110).
[1] По поводу диссертации Постникова, против которой восстал профессор финансового права Цитович.
1 И. И. Мечников. «Мое пребывание в Мессине (из воспоминаний прошлого)» . «Русские Ведомости» , 1908.
2 Воспалительный выпот заключается в выхождении белых кровяных телец (лейкоцитов) крови сквозь стенки кровяных сосудов.
3 Гной, краснота, жар, боль.
1 В 1892 году он подробно развил это исследование и доказал, что фагоцитами являются клетки саркоплазмы мускульного пучка, которые поедают его сократительную часть - миоплазму
2 Вступительное слово председателя съезда естествоиспытателей и врачей в Одессе « в 1883 году.
3 Virchow's Archiv. Vol. 96. 1884
1 Virchow's Archiv. Vol. 97. 1884.
1 И. Мечников «Рассказ о том, как и почему я поселился за границей». «Русские ведомости». 1939, № 230.
1 «Русское Слово». 1914
1 Первыми его учениками в Пастеровском институте были Н. Я. Чистович и английский доктор Рюффер.
2 И. Мечников. «О том, как и почему я переселился за границу» . „Русские Ведомости» . 1909, №230.
1 «Лекции» переизданы Госиздатом (Классики Естествознания, книга первая, Гиз. М. П. 1923).
1 Юбилей И. И. Мечникова. «Анналы Пастеровского Института». 1915.
1 Негели, Бухнер, Гравии,
1 Шово.
2 Бухнер.
3 Г айем, Бирш-Гиршфельд, Клебс, Реклингаузен, Вальдейер и Вирхов.
1 Другие ученые называют его алексином или комплементом.
2 Микро- и макроцитазы, смотря по тому, идет ли речь о микро- или макрофагах.
3 Различные авторы употребляют разнообразные синонимы: предохранительное вещество, сенсибилизатор, амбоцептор и т. д.
1 И. Мечников. «Иммунитет в заразных болезнях».
1 Как личных, так и в сотрудничестве со своими учениками Салимбени и Вейнбергом.
1 Бертело и Вольман.
1 Тифозные бациллы в сыворотке животного, предохраненного от тифа.
1 «Сладкому ничегонеделанию».
1 Илья Ильич сохранил живейшую признательность за широкое содействие, оказанное миссии, астраханскому губернатору, генералу Соколовскому, его помощникам г. г. Козину и Вольфертсу и доктору Залкинду. О всех них он ■ всегда вспоминал с теплым чувством.
1 Гликобактер пептоникус был найден в кишечном содержимом нормальной собаки.
2 «Воспитание с антропологической точки зрения» , „Возраст вступления в брак», «Очерк воззрения на человеческую природу», «Борьба за существование в общем смысле».
1 «Сперва умирают желания наши, потом — надежды, затем страх, потом когда и они умерли, — долг уплатить должны мы: прах призывает прах — и мы умираем сами». Шелли.
1 Целебная минеральная вода.
2 Грудина.
3 «Можно внезапно умереть и с меньшей болезнью, чем ваша».
1 Возобновив исследование мочи, я нашел, что индикан у меня появился вновь и нередко в довольно значительном количестве. И это несмотря на сколь возможно рациональный режим. Стараюсь выяснить это странное противоречие.
1 Распространенная в начале мировой войны система германских аэропланов.
2 Рождественский дед.
1 Annаles dе I'lnstitut Pasteur. Jubilé de I. Metchnikoff. - Ibidem.
2 Ibidem.
1 Ему во время предписали обессоленный режим, благодаря чему отеки развивались не очень сильно.
1 В этой работе он развивал положение, что идеи относительно половой функции были извращены боязнью заразительности венерическими болезнями в такую эпоху, когда не умели ни избегать, ни лечить их. Он доказывал, что именно на этом страхе было основано осуждение естественной половой функции различными религиями. Он рассматривал дурные последствия этого и излагал свои доводы относительно необходимости вернуться к более здравым понятиям, соответствующим природе и позволяющим изучать зло и этим избегать множества бед; он считал совершенно необходимым в этом отношении новое направление в воспитании юношества.
Затем он рассматривал роль половой функции в жизни гениальных людей и с этой целью читал их биографии и много литературных произведений. Уже в разгаре болезни он читал биографии Виктора Гюго, Наполеона I, Ж. Ж. Руссо. Он перечитал «Исповедь» последнего и пробегал даже «Новую Элоизу».
2 Гонококковое (гонорройное) поражение глаз.
1 Застой крови в легких.
1 Было 5 часов 20 минут по условному военному времени; в действительности -4 часа 20 минут.
1 Таким образом стадия зародышевого развития – паренхимула или фагоцитела и гаструла — соответствует готовой форме иных первобытных многоклеточных или даже колонии одноклеточных.
2 Губок, других бескишечных и иглокожих.
1 С одной стороны, заменой дикой флоры культивированной, которая противодействовала бы первой, а с другой стороны, усилением и вакцинацией благородных клеток организма.